Юрий АДРИАНОВ. ПАМЯТЬ ДЯТЛОВЫХ ГОР
Записки нижегородского литератора. Продолжение. Журнал «Вертикаль. ХХI век» № 60, 2019 г. На обложке журнала «Вертикаль. ХХI век» № 60 работы Ю.А. Адрианова Университетский переулок Наш Университетский или Мышкин переулок... Наш двухэтажный факультетский дом. Сколько песен, сколько слов о нем сказано, сколько судеб здесь разрешилось когда-то!.. Моста через овраг еще не было. Был тупичок, что шел в тридцати метрах от входа в здание факультета. У входных дверей в самом здании нас встречала сразу же вешалка, далее путь лежал по лестнице на второй этаж. Было невероятно тесно, но очень уютно, по-домашнему хорошо. На первом же этаже, справа от вешалки находился деканат, где в наши юные годы царствовал Георгий Васильевич Краснов. Помню, как собрав редкую «мужскую» партию факультета, он «проскрипел» своим голоском: — Есть мужская солидарность. В университете проводится соревнование по легкой атлетике. Важно участие: так что все, кто может ходить — призываются защищать славу родного факультета. Нужны зачеты? Тогда все на стадион «Динамо»! Мы вышли все!.. У нас не оказалось пустых мест. Я бежал и сто метров и полторы тысячи. Сашка Цирульников прыгал в высоту и взял полтора метра! А у других факультетов были нули. Через месяц учебы мы уже знали всех преподавателей: и филологов и «не наших» историков. Главным лицом был, конечно, старый историк, член-корреспондент Академии наук Сергей Иванович Архангельский. Он нам, филологам, не преподавал, но мы понимали, что это по своему званию — первое лицо на факультете. И мы очень учтиво с ним здоровались, когда сталкивались где-нибудь в стенах университета. Почему-то запомнился зимний 1957 г. Я стоял у входа и читал объявления на правой стороне вестибюля и вдруг вздрогнул, увидев, что рядышком возле меня стоит перед стендом Сергей Иванович. А я от своей бабушки, Надежды Николаевны, уже знал, что Архангельский читал лекции в нашем университете вместе с моим дедом, который, как недавно выяснилось, был первым председателем ученого Совета ещё в 1916 г. Я поглядывал робко на старого педагога, и во мне возникло желание с ним заговорить, но, испугавшись своих намерений, я вышел вслед за ним на улицу и тутже растворился в толпе. Через год осенним днем мы хоронили ученого. И от факультета по Свердловке и дальше по Арзамасскому шоссе до поворота от тюрьмы к старому городскому кладбищу несли его гроб на руках. Из филологов в наше время самым старшим был Алексей Василькович Миртов. Его филфаковскую «одиссею» подробно в своих воспоминаниях описал Александр Цирульников. Я же вспоминаю, как сдавал ему зачеты по русскому. На столе стояло пиво, он отпивал его, лежали конфеты, которыми награждались девицы, обнаружившие достаточные знания. «Мишки» быстро расходились. Но тут появилась мастер спорта Нелли Маштакова. Миртов, это узнав, безжалостно гонял спортсменку до слез и отчаянья... На первом курсе студенты начинали писать «курсовые» работы. Я «выискал» себе тему: «Топонимика в романах Мельникова-Печерского». Писал сей свой труд под руководством аспирантки кафедры русского языка Зои Скворцовой, дочери педагога и писателя Николая Васильевича Скворцова, с которым подружился уже после, в Союзе писателей. А в ту осень в назначенный день я стал лихо «защищаться». Но вдруг дверь из коридора растворилась и предо мною возник Алексей Василькович: — Чем заняты? Курсовая? Ну а как называется тема? Ему сообщили название. — Так, — продолжил разговор Миртов, — поставьте юноше пятерку. За отвагу! Он написал эти работы за два месяца. Я, если бы взялся за подобную тему, писал бы десять лет! Поставьте ему пятерку, за отвагу! — и ушел, не прощаясь, куда-то в темень факультетских коридоров. Скворцова все же мне поставила четверку, и я был счастлив! Спустя несколько дней меня «захватили» фотографироваться на Доску Почета. И опять все случилось на кафедре русского языка. — Куда опять этого юношу снимаете? На доску? Так вы бы посадили к нему какую-нибудь девицу! Так-то ладно будет! — снова провещал Миртов. ...Почему-то мне запомнился его рассказ о начале учительства в Симбирской гимназии. — Ведь там нас все знали! Учитель гимназии в форме, и все раскланиваются. Я приходил на берег Волги, тихонько покупал дешевые пирожки с бутором и, спускаясь с Венца, шел на прибрежные пески. Там, встав спиною к городу, вынимал свои «пирожки» и жадно поедал их. Мы слушали, вздыхали, жалели нашего профессора! Его главную работу «Донской словарь» я не читал, но много о ней слышал, в том числе в шестидесятые годы, когда побывал у Шолохова. Миртов преподавал кому-то и из великих князей, но об этом нам уже не рассказывал. На всем поколении наших учителей, в основном, едва преодолевших тридцать-сорок лет жизни, лежал след Великой Отечественной войны. Со дня Победы прошло всего двенадцать лет. Все воспоминания были свежи! Но одновременно это было время и какого-то забвения. Эйфория первых послепобедных лет прошла, ордена носить не решались! Поэт-фронтовик написал по этому поводу: Ордена теперь никто не носит, Планки носят только чудаки! Да и эти носят, словно просят, Словно, извинясь, за пиджаки! Но мы знали, что Иван Кириллович Кузьмичев — сталинградец, что спокойный и мудро-рассудительный Борис Николаевич Головин прошел от «звонка до звонка». Для меня было решительно-неожиданными «фронтовые рассказы» Владимира Григорьевича Бараховича, преподававшего нам латинский язык и античную литературу. Он, оказалось, был лейтенантом-переводчиком в танковой части. Не помню, по какому-то поводу он поведал нам про штурм Вены. Когда еще сохранялась «пора перестрелок», он забежал в подвал, в маленький книжный магазинчик, где теснились старинные тома. Продавец страшно был перепуган появлением русского офицера, который его сразу же ошарашил вопросом об античных изданиях. Продавец, пораженный, что в «варварской армии» есть такие знатоки, ползал по полкам, отыскивая Тита Ливия или Софокла. Ну, одним словом, что-то отыскал, чем-то утешил «русского начальника». С Владимиром Григорьевичем у меня сложились чудесные отношения, но я так и не выбился из оценки в три балла. В переводах путался среди сказуемых и подлежащих. Барахович язвительно улыбался и сообщал мне: «Товарищ Адрианов, вас не с кем сравнить в вашей группе, ну, разве что с Собко!». Сравнение с этой девицей не делало мне чести, но я терпел. Соглашался. А Владимир Григорьевич ставил мне «тройку», и я был счастлив! Доцент Александр Алексеевич Еремин являлся еще и членом Союза писателей. Он собирал нас — поэтов ГГУ. Приходили на эти сборища: Валя Герасимов, Саша Цирульников, Валера Шамшурин, Рита Ногтева, Толя Вострилов... Позже в «Горьковском университете» дали большую подборку моих стихов с доброй статьей Еремина. По-моему, эта группа просуществовала с полгода, далее мы все стали двигаться к Пильнику. Но Еремин — один из первых членов Союза, которых я увидел. В те дни на факультете даже висел лозунг: «Вся власть — поэтам!». Выпускалась газета «Кажинный день». Это было «стенографическое» издание! Длина его шла от шести до восьми метров. Придумал издание Толя Пилипенко, который в ту пору был мужем Ирины Морозовой. Я стал главным рисовальщиком газеты. По нашим понятиям, издание это было «левым», там печатались шутки, которые проходили лишь из-за великого терпения наших педагогов. Помню выпуск к фольклорной конференции и огромный антифольклорный плакат: «Я порвал с фольклором, а ты?», бабка с автоматом Калашникова на шее: «Фольклор не пройдет!», дед, пародийно выражавший плакат Моора: «Не записывайся!». Самое главное, были веселые речения Толи Пилипенко Но вот в эйфории свободы произошел срыв. Мы к третьему курсу уже стали забывать Алексея ВасильковичаМиртова, но он появлялся на факультете и внимательно читал нашу газетенку. Как-то он увидел на себя карикатуру, где Миртов целуется с кем-то из гостей, повиснув на шее и поджав ноги. Реакция была громовой. Нас вызвали к декану Серафиму Андреевичу Орлову: — Друзья, — восторженным голосом начал декан. — Друзья! Вы ошиблись, надо снять газету, Алексей Василькович пожаловался мне на вас! Газету сняли, и она вообще перестала выходить. — В чем дело? — спрашивали педагоги. — Миртову не понравилась ... Но газета сохранялась в «запасниках» на факультете еще несколько лет. В шестидесятые годы я забрал ее окончательно в нашу редакцию, на телевидение, где она и погибла от нашего же невнимания окончательно. Наш студенческий эстрадный театр — НЭТ был самым первым подобным театром в городе, ТЭМП у политехников появился позже, вдогонку. А история возникновения его необычная: осенью 1959 г. отправились в командировку: А. Цирульников, Б. Грехнев, Л. Флаум, Ю. Адрианов, В. Лысяков... Мы ехали на встречи с сельским населением с. Тоншаево. Тогда там, после окончания нашего факультета, работал Толя Вострилов. Целую неделю путешествовали на санях, на машинах по «тоншаевским краям». Пели, читали стихи: Владик Грехнев читал лекции. Народу собиралась — толпа. Ведь телевизор только-только пробирался в сельский центр, деревни все были тихими, без экранов. Слушали нас с величайшим почтением. Помню в одной из деревушек, в самый разгар лекции о Пушкине, погас свет. Люд не зашумел, только кто-то робко попросил свету на сцену. Помню, что тотчас вынесли на стол к Грехневу то ли свечу, то ли керосиновую лампу. Владик продолжал ходить вдоль сцены, и зал затаенно слушал его. Голос у Грехнева был громкий, ясный, так что ничто не нарушило течения речи. Когда, где-то под конец рассказа, снова вспыхнул свет, то по залу пробежал лишь тихий одобрительный шумок. Теперь-то я понимаю, что мы тогда присутствовали при удивительном «действии» грехневских будущих лекций, о котором так часто вспоминают его ученики. «Грехневские манеры», молчаливые прогулки по школьным коридорам — потом переняли и его ученики в одном из сельских районов, где он преподавал после ВУЗа до перехода в аспирантуру. Владик был удивительным человеком, умевшим себе подчинить всех, кто общался с ним... Ну, об этом я еще расскажу подробнее. А в тот наш вояж, наездившись, наволновавшись, раскрепощенно почувствовав жизнь, мы решили, — не помню чья эта задумка, мне кажется Филатова — сделать театральное действо «Семь дней, которые потрясли Тоншаево». В верхнем факультетском вестибюле устроили «театральный зал»: стащили в него стулья из всех аудиторий. В той части зала, где должна была быть сцена, взгромоздили трибуну и на ней появился Женя Филатов. Он сообщил, что НЭТ — это наш эстрадный театр. Что он подобен японскому театру — в нем женские роли исполняют мужчины и так далее. Он выкладывал на трибуну свой текст и читал его. Потом появлялись и мы, иллюстрируя сценки. Я, помню, с Сашей Цирульниковым воспроизводил старуху, одну из тех, с кем мы встречались в нашей фольклорной практике, говорил и про первую «ерманскую» и про вторую «ерманскую», что-то напевал смешное... Видимо, все это было веселым, зал ревел, а мы после всего произошедшего испытывали странное удовлетворение, облегченное и светлое... В марте 1961 г. мы передали в нашем спектакле о запуске человека в космос, и все поверили, так что спустя две недели с трудом приняли полет Гагарина! Конечно, я не думал, что два года спустя, Саша Цирульников, Толя Вострилов и я познакомимся с Юрием Алексеевичем, еще 4 года пройдет, и я вместе с десятью ровесниками-писателями буду вместе с Гагариным принят в почетные казаки станицы Вешенской, будем целыми днями с Гагариным вместе, и пировать у Шолохова, и в футбол играть! Об этой славной поре я пишу в очерке «Как нас в казаки принимали». А НЭТ наш расширялся за счет «молодежи». Там появился Саня Щетинин (у которого на его «визитке» написано, что группа крови «первая»), Коля Смолин, Леша Гороховский и другие... Хорошо, что многие песни живут на истфаке и поныне. В первой же нашей постановке прозвучал гимн истфака: «Я люблю свой истфил, что само по себе и не ново!» Я помню, как шел в снежный день через площадь на Ошаре, и тут вдруг началась переплавка стихов Константина Ваншенкина на наш лад. Песен переписано великое множество, этот эстрадный прием, популярный в те годы, мы, кажется, израсходовали сполна! Учились мы уже получше, чем на первом курсе. На третьем или четвертом я чуть было не получил именную «Толстовскую» стипендию. Сдав на «отлично» спецподготовку на военной кафедре, философию, еще какие-то два экзамена, я пошел победно на экзамен «Педагогика» к Ляпунову. На его лекции ходили как на шутку. Лектор вещал: «Раньше как учили: проносили портрет одного царя, другого царя — вот и получалась история царей, а не народов!». И все в этом плане!.. Я взял билет: десять качеств советского учителя. А это был вклад Ляпунова в нашу педагогику. Начал: «Принципиальность, правота...» — Нет, нет, — заорал педагог. — Сначала правота, а потом принципиальность... Скандал разыгрался. Все не понимали нашего спора. Но ответ оказался простым: педагог уже поставил кому-то «пять», а по две он не ставит. Ух, долго просил его нарушить завет декан Орлов. Но тщетно! Последний год на факультете принес новые беды: мы поругались с Потявиным. Я был изгнан из «фольклорной дипломной». На зимней сессии я пришел сдавать русскую литературу начала XX века к Алексеевой. Взял билет, читаю: ранние рассказы Серафимовича, второй вопрос — басни Демьяна Бедного. Ариадна только вздохнула: «Ох, какие неприятности! Ну, знаете, Юрочка, давайте потолкуем о литературе вообще...» И пошел дружеский разговор о Гумилеве, Сологубе, Ахматовой. Я поделился своей бедой. Она мне предложила тут же писать работу у ней. «Эволюция жанра поэмы в 1940-60 годы» — такой стала моя дипломная работа. Писалась она легко, свободно: я, зная кому пишу, вольно излагал материал. Работал стремительно, с каким-то восторженным интересом. На факультете собирались редко, все чаще торопился я в Дом ученых, в Союз писателей, где готовили первую книгу. В первомайском номере «Горьковского университета» была напечатана целая полоса моих стихов. Многие стихи из нее: «Провинциальные Гомеры», «Натка», «Над седым залесьем тихо-тихо...» и другие я включаю в свои избранные. 1962 год — год определения в жизни! С этих пор началась подлинная поэзия. В том же году под названием: «Знакомьтесь, Юрий Адрианов» — появились мои стихи в «Литературе и жизни», затем вместе с Сашей Цирульниковым мы опубликовали стихи в № 9 журнала «Октябрь». Потом следом пошли «Знамя», «День поэзии 1963», «Молодая гвардия», «Смена» и далее... В весенние дни последнего года наш факультет покидал свой Университетский переулок. Химфак съезжал в новое здание, а его апартаменты навсегда переходили во владение истфака. Неуютно было в новом здании. Там стоял какой-то «химический воздух», было просторно, но мне казалось как-то одиноко! С той поры прошло сорок два года. Выучились и выросли новые поколения историков и филологов. Несколько поколений, талантливых и разных! Годы прошли, идут... А все же нет-нет, а глаза и душа приведут к старому Мышкину переулку, и тихо начинают петь губы: Старый дом за углом Не могу на тебя наглядеться, Помнит он о былом, О прослушанном море лекций. Здесь я жил и дружил, Здесь науки слегка я коснулся. В лагеря уходил, Лейтенантом домой вернулся...
Валерий СДОБНЯКОВ. ОБЗОР ЖУРНАЛА «ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК» № 52, 2017 год На обложке репродукции картин художника Марии Владимировны Заноги. Последняя в 2017 году книжка журнала «Вертикаль. ХХI век» открывается подборкой стихов поэта из Минска Анатолия Аврутина «Такое время… Сентябрит». Вдали от России непросто быть русским поэтом, Непросто Россию вдали от России беречь. Быть крови нерусской… И русским являться при этом, Катая под горлом великую русскую речь. Вдали от России и птицы летят по-другому – Еще одиноче безрадостно тающий клин… Вдали от России труднее дороженька к дому Среди потемневших, среди поседевших долин… Будущий 2018 год для поэта юбилейный. Публикацией этого стихотворного цикла редакция «Вертикали. ХХI век» поздравляет своего постоянного автора, главного редактора русского литературного журнала в Белоруссии «Новая Немига литературная», лауреата многих литературных премий с предстоящим 70-летием. Многолетний издатель альманаха «Тула» из города Щекино Тульской об
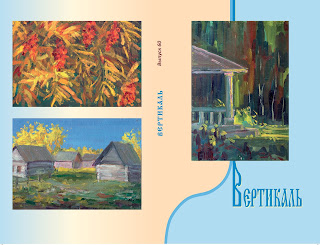



Комментарии
Отправить комментарий