Юрий АДРИАНОВ. ПАМЯТЬ ДЯТЛОВЫХ ГОР
Записки нижегородского литератора. Продолжение. Журнал «Вертикаль. ХХI век» № 60, 2019 г. На обложке журнала «Вертикаль. ХХI век» № 60 работы Ю.А. Адрианова «Шестидесятники» с Волжского Откоса ...Так уж случилось, что впервые я побывал в помещении Горьковского отделения Союза писателей СССР в дни его переселения из однокомнатной «голубятни» в Доме Труда на начальном углу площади Минина и Пожарского и Свердловки в тогдашнее здание Дома партийного просвещения (ныне там помещается хоровая капелла). Совсем рядом! Секретарь Союза писателей Нил Григорьевич Бирюков попросил нашего декана Орлова прислать молодые дарования помочь перетаскать мебель. Писательские пожитки были убоги: два шкафа, два стола, десяток стульев, несколько пачек книг, деловых бумаг небольшого архива, пишущая машинка «Рондевуд», на которой когда-то вскоре после войны техническая секретарша Надежда Михайловна Харлова перепечатала с черновика набело знаменитый в грядущем роман Галины Николаевой «Жатва». Рожденный, он получил Сталинскую премию и победно прошумел в советской литературе, будучи сразу же объявлен классикой новой эпохи! Помню, что многое в тот день переносили мы на руках мимо садика с фонтаном и второго сквера, где памятник земскому старосте Кузьме Минину четко показывал правою рукою наш путь к солидным дверям Партпроса. По мраморной лестнице мы поднимались на второй этаж, где сворачивали направо. Там, после небольшой прихожей, где установили потом диван, подаренный нам ΑΧΟ «партийцев», было две комнаты. У «стариков»-писателей от обилия площади для проживания кружилась голова! Вручную была перенесена одна из реликвий писательской организации — шахматный столик. Тогда я не знал еще, что мы не просто въезжаем в новые комнаты, но это горьковские писатели входят в шестидесятые годы! Я не знал, что через пять лет, в 1965 году, меня примут в члены СП СССР! Почти сразу же я стану членом правления, заместителем ответственного секретаря! А потом еще — десять лет — членом Ревизионной комиссии при правлении Союза писателей России... Потом много что еще случится! Но мебель в тот день я таскал, уже имея решение на издание моей первой книги стихов. Но об этом я расскажу отдельно. А в тот день «птенцы гнезда Пильника» приобщались к чертогам писательской организации, которая казалась местом святым и почитаемым! Хотя общение с Пильником в его квартире на Ошарской улице уже ненавязчиво, по-доброму, приручило нас к миру местного писательского братства. Но ощущение дистанции разумно сдерживало нас от глупых шагов и высказываний. В «книжном колодце» — кабинете Пильника мы узнали, что до войны отделение Союза одно время обитало в уголке на первом этаже здания музея на улице Минина, затем расселилось на первом этаже клуба Свердлова, а затем отправилось в заоблачные, предчердачные высоты в Доме труда. И, наконец, обрело вполне «цивилизованные» компоненты в местах «партийного просвещения». Был там буфет с подлинными сосисками, а при желании — и с коньяком... В 1960 г. в составе Горьковской писательской организации было пятнадцать членов СП СССР. Ныне, когда я пишу эти строки, в нашем благословенном городе уже их более 55 человек! За сорок лет нас осталось из тех, кого принимали в те далекие годы — только трое: Половинкин, Рыжаков и я... Писательская организация рождалась из группы литераторов при молодежной губернской газете «Молодая рать». Известна точная дата создания литгруппы — 12 марта 1925 г. На полосах литературных страниц появляются известные в будущем фамилии: Борис Рюриков, Михаил Шестериков, Константин Поздняев. У меня в библиотеке хранится коллективный сборник — «Начало» — творческая заявка группы Нижегородской ассоциации пролетарских писателей — НАППа. Уже в маленькой книжечке «Начала» можно увидеть стихи молодого Бориса Пильника: Ветер, ветер! Бродяга милый, Беспардонный и верный друг! В 1928 г. с оглушительным успехом появилась в журнале «Октябрь» начальная вещь Николая Кочина — «Девки». Самая яркая, по мне, в нижегородской прозе XX века. Но в сборнике «Начало» ее еще нет... Любопытно, что еще не шагнул 1-ый съезд, а в этом сборничке будет подзаголовок: «литературно-художественный сборник горьковского Союза советских писателей». В «Начале» вершили бал свой поэты: будущий редактор «Литературной России» Константин Поздняев, представлял свои стихи Илья Симаненков, который станет одним из ведущих поэтов в Карелии; здесь же напечатает стихи свои об эскадронном запевале Николай Кузнецов-Ветлужский: Ну-ка, спой про путь пройденный! Тряхнувши чубом, он запел, Как на Сиваш Семен Буденный С отважной конницей летел. Кузнецов-Ветлужский — отец известного горьковского телережиссера, моего друга Игоря Кузнецова, с которым мы написали в шестидесятые годы несколько киносценариев, а внучка поэта, который был репрессирован в тридцатые годы, — известная ныне телеведущая Елена Кузнецова. Комсомольский вожак, Михаил Шестериков, пишет про романтического «товарища Семенова»... Сборник «Начало» составлялся, в основном, Борисом Рюриковым. Думаю, что доверчиво-прямолинейное указание, как комсомолии обойтись с «литературным товаром», также принадлежит руке редактора-издателя. Вот этот рецепт, который привожу, как своеобразный документ в творчестве провинции двадцатых годов: «Этот сборничек можно просмотреть и отбросить в сторону. Но можно сделать и так, чтоб материал нашей книжки не лежал мертвым грузом. Мы предлагаем каждому нашему читателю, юнсекциям, комсомольским ячейкам — используйте вполне наш сборник. Рассказы, напечатанные в нем, читайте на вечерах в «красных уголках». У нас мало новых песен. А некоторые стихи, помещенные в сборнике, можно петь. Попробуйте, разучите стих «Товарищ Семенов» — его можно петь на мотив старой песни «Князь Курбский». И так далее, и так далее. Интересная инструкция к потреблению литературы? НАПП — деловая организация. Но в 1932 г. ее наша партия и правительство прикрыли. Наступило время Союза советских писателей. ...Вообще-то, с Борисом Ефремовичем Пильником я познакомился в 1955 г. Мне было шестнадцать лет, я учился в восьмом классе. Моему будущему учителю исполнилось в ту пору пятьдесят два года. Он казался мне глубоким стариком. Потом, живя рядом с ним и бывая в студенческие годы у него по несколько раз в неделю, я тихо расстался с мыслью о нашей возрастной разнице. К нему оставалось, все усиливаясь, сыновнее отношение. Такое чувство к нашему Старику согревало многих. Вот что не могу вспомнить — чтобы кто-то хамил или грубил бы ему. Никто не рвался в ораторы или лидеры. И этой простотой мудрого интеллигентного человека одаривал нас сам Пильник. Он учил широко любить творчество; неплохо рисовал. Знаний Пильник имел на добрую дюжину кандидатов наук! Он стал художником книги своего товарища. Стихи А. Зарубина вышли в 1940 г. в Горьком с обложкою работы Бориса Пильника, с поразительно характерными для него «обводными» буквицами названия... Наш Старик еще и прекрасно вырезал из дерева. Шедевр этих увлечений — его клюка с зубастым змеем и диковинное существо на письменном столе: оно опиралось на свой огромный нос, сидя на лапах, похожих на задние ноги зайца. А еще Старик наш любовно и профессионально переплетал. Он очень любил выбирать для обложки или переплета грубую или очень фактурную холстину. Собирал спичечные этикетки и наборы открыток, которые вечно громоздились на письменном столе рядом с новыми, только что купленными книгами... ...А сейчас вспоминается Лера Воронец. Худая, со взбитой копной рыжих волос. Человек несомненно очень одаренный! «Звезда тогдашних авангардистов». Странно, но она писала стихи от мужского имени: Луг пахнет тепло и кисло. Вздохнул — а назад не смог. Рву белых ромашек кисти Разжатыми пальцами ног! Со мной у нее были доброжелательные отношения. Она выделяла мои стихи об Аввакуме: «Над тундряными, низкими буграми...». О ее очень талантливой, необычной для самого начала шестидесятых годов душе говорит то, что, в общем, очень осторожный Николай Алексеевич Барсуков, заведовавший отделом культуры в «Горьковской правде», опубликовал большую подборку ее стихов под заголовком «На трибуне — Воронец». Но на новаторство всегда претендовала еще Маргарита Ногтева. Она была меня старше на один год. Была дочерью профессора-сельхозника. Проживала в соседнем доме, вместе с Гапоновыми, семейством знаменитых физиков. В нашем дворе почти не было девочек. Мы бесились: играли в футбол, играли в войну, угрожая стеклам соседей. ...Рита Ногтева сидела на полукруглых ступенях своего подъезда, над которым возвышался портик из двух колонн с козырьком. Под ним читался зеленый однотомник Гете. Рите было скучно, и она предложила создать тимуровский отряд... Отряд организовали, но тут же гайдаровскую идею убили, погромив сад в усадьбе знаменитого нижегородца А.А. Савельева, где еще жила его семидесятилетняя дочь... Но вот соперница Маргариты Ногтевой Лера Воронец исчезла как-то внезапно. Говорили, что вышла замуж и отъехала в Москву. Не ведаю, но по «пильниковской академии» пошла гулять шуточка: Мчится к Ногтевой гонец: Воронцу пришел конец! Шлем мы к Ногтевой гонца: Больше нету Воронца... ...Постоянным посетителем пильниковского кружка был биолог Ильин. Некрасивый, с полноватым лицом, который украшали толстые и малоподвижные губы. Несколько лет он приносил варианты своего стихотворения «Письмо». Он лишь просил слова, а «старожилы» уже шептались: «Сейчас начнется. Я жду письма, его все нет и нет». И вновь и вновь проливались слова неудачливого и некрасивого парня: Я жду письма, его все нет и нет. Я каждый день смотрю в почтовый ящик. А в коридоре — очень слабый свет. И темнота свои глаза таращит. Борис Ефремович делал долгий и глубокий вздох: «Так-с! Т-а-а-к-с!». И начинал, в который раз, водить своим карандашом по произведению Ильина. Это было бесконечное шлифование! Так что, из-за частого прослушивания, все строки его знали наизусть. В этом усердии Ильина было нечто и трогательное и удивительно жалкое... ...Вспомню второкурсника из пединститута Колю Рачкова. Ныне он — лауреат нескольких литературных премий, уже издавший у себя в Питере «Избранное», а в ту пору, арзамасский паренек, он, увидев из-за занавеса зал, где преобладали девицы, как-то очень наивно попросил меня: «Только скажи, пожалуйста... что мне еще нет... двадцати лет!». Выйдя к рампе какой-то извилистой походкой, нервно и зычно грянул: Сенокос — сто кос! По лугу — враскос! Встало солнце, Сохнут росы, Но поют, как осы, косы. Сто кос — двести рук, Опоясан луг в круг. ...Вспомнилось, как мы с Цирульниковым записывали старинные песни в Кирилловке под Арзамасом — на родине у А. Карпова, на родине у собирателя XIX века. Сидели возле дома, напротив разрушенной церкви, вдруг возник из-под земли собственной персоной Коля Рачков: — Привет, а это дом мамы! Я отсюда! Не думаю, что это случалось по злому умыслу, но у раннего Рачкова вечно в стихах возникали «случайно забредшие» строки и образы из чужих, но больно уж полюбившихся стихов. Первые его книги «Колодцы» и «У отчего порога» были свежими, влюбленными, но не очень глубокими! В начале восьмидесятых он отъехал под Ленинград, в Тосно, где возглавил «русский край» в тамошней поэзии. Коле никогда не были чужды эпиграммические мотивы нашего кружка. Как-то после поездки на крайний север я читал свои стихи о полярных летчиках, которые собрались и выпивают в свободный от полетов день: Как странно собираются мужчины, Когда одни без жен и без подруг... Потом, отчитав стихи, ушел на первый этаж Дома ученых, в буфет, где, заставив стол портвейном, морально развеселился в обществе прекрасного пола... Рачков пришел в буфет. Мест не было. Он недолго посмотрел на меня, на мое окружение и назидательно изрек: Вот так порой, без дела, без кручины, В углу буфета обретя уют, Настолько напиваются мужчины, Что женщинам прохода не дают! Строки имели шумный успех! Кроме Рачкова в «пильниковском гнезде» были еще Ирина Морозова и Анатолий Гринес из пединститута. У Иры были стихи, напечатанные в журнале «Юность». По тем временам — великое признание! Кроме того, она, ученица выдающегося ученого того времени JI. Фарбера, написала статью в сборник о забытых писателях-нижегородцах — о поэте Леониде Граве, авторе романса «Ночь светла, над рекой тихо светит луна». В недавнем «Биографическом словаре русских писателей 1800-1917 гг.» эту студенческую статью не забыли. В «Юности» Морозова писала, как мальчик «предложил» ей дружить. Но вот однажды, на очередном вечере, Ирина Морозова вышла и начала новое стихотворение: «О, женщины — ничтожество вам имя! Ложится снег на серую траву!.. Вильям Шекспир! Прозвучали исповедальные строки: Соседка говорит: «А мой-то, сволочь, Дерется ни с того и ни с сего, Но за одно, за ласковое слово Я для него...» Ответ «сильного пола» студентов-поэтов прозвучал вскоре в устах узбека Икрамова, в том же зале Дома ученых он резюмировал: «Все мы мужчины — сволочи!». Были аплодисменты. И даже бурные... Работа «поэтической секции» городского студенческого клуба становилась популярной не только среди вузовской молодежи. На вечера, стараясь быть в стороне, приходили «университетские» преподаватели, как «физики», так и «лирики». В Союзе писателей Пильник рассказывал: «У них прямо как у нас в двадцатые годы!». Иногда я сам из-за сцены видел, как в проемы открытой двери возникала высокая и приметная фигура Нила Бирюкова. Он тихо улыбался, слушая речи о поэзии. Споры зарождали наши тайны. Уже заранее обговоренные, ими становились «провокаторы» — братья Ивашковские Виктор и Володимир, а, может, и наш сокурсник Евгений Филатов. Филатов ревниво кричал, ввергая в негодование женскую часть зала, критикуя красивого, молодого и очень удачливого Александра Познанского, которого любил весь наш город и который упорно и блистательно приручал публику к прочтению русской поэзии. Из зала гремел эпатажный возглас: «Познанский, вы салонный чтец!» Это было очень самоуверенно со стороны Филатова! Убить, конечно, не убили бы, но поцарапать могли. Все приходившие на вечера знали: танцев не будет! Оркестрик играет лишь затем, чтобы не мешать гардеробу работать. В вестибюле, на втором этаже, возле опустевшего зала неторопливо перемещались еще две-три последние пары. У лестницы и у входных дверей доспоривали последние пары. Да какой-нибудь поэт, не выговорившись, дочитывал шалой стайке студентов свои неразделенные вдохновения. Тяжело ступая на протез, шел Борис Ефремович Пильник, уже одевший на себя «свое темно-синее пальто». Опираясь на саморезную клюшку с змеиной головой, он шел к дверям... Открывалась дверь на улицу: «Такси подано»! Комната на третьем этаже Дома ученых, где собиралась на свои обсуждения поэтическая секция, и квартиры на улице Генкиной, а потом и на площади Горького были как «сообщающиеся сосуды»: два-три десятка людей встречались на обеих площадках. Там бывали и встречались не только молодые поэты, студенты-филологи из Университета или Пединститута, но и постоянные учащиеся из Строительного и Медицинского институтов. Частым участником этих встреч и вечеров у Пильника бывал и постоянный член Правления Саша Литвак, общительный и остроумный, живо интересующийся всем, что касается новинок в нашей поэзии. Ныне Александр Григорьевич — ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии, профессор, доктор наук, декан одного из факультетов в Университете... Перечислять его должности и научные заслуги можно было бы на множестве страниц! Тогда Саша, частый гость московских институтов и академгородка в Новосибирске, часто привозил первым в наш город новинки изданий. Так, первым оказалась у него книжка «Тарусских страниц», изданная в Калуге под редакцией К. Паустовского. В ней были широко представлены новые стихи Марины Цветаевой, обширные поэтические подборки Наума Коржавина, Владимира Корнилова, Давида Самойлова. Бориса Слуцкого, рассказы Юрия Казакова, первая прозаическая вещь Булата Окуджавы — «Будь здоров, школяр!» и другие незабвенные произведения той незабвенной поры! Все мы писали в Калугу и «Книгу-почтой». Получали солидный том с прекрасной супер-обложкой работы М. Борисовой-Мусатовой. На моем экземпляре — очень памятные многочисленные поправки Коржавина, его памятная надпись: «Юре Адрианову с чувством непосредственной симпатии. Н. Каржавин, 5/VIII-63 г. г. Горький». Он приезжал к своему другу Лазарю Шерешевскому, выступал в теленовостях у Саши Цирульникова, а потом мы с ним сидели весь вечер в сумерках у меня на улице Белинского. Но вернемся к «питомцам пильниковского гнезда». Саша Литвак, просвещая нас, привозил с собою из академгородка песни Городницкого, Визбора, Галича... Владимира Высоцкого еще не было слышно. Студенты пели новоприобретенного Булата Окуджаву. ...Наши родители, старшие в наших домах, были современниками эпохи «черных воронов». Наша внезапная и, видимо, неожиданная раскованность воспринимались ими чем-то непостижимым, жутким. Помню, как во время одной нашей вечеринки у меня дома я вышел в кухню, где мама готовила какую-то нехитрую закуску — что-то вроде репчатого лука с подсолнечным маслом. — Мама, там тебя художники величают Всероссийской матерью! Она отдала мне закуску и заплакала: — Мама, ты что, от лука что ли?.. Мама подняла глаза и мучительно сказала: «Я слушаю, какие вы песни поете! Вас всех посадят! Такие вы красивые, умные, все такие талантливые! Но вас всех посадят! Мне так жалко вас. Всех жалко!.. Всех...». ...Слава Богу, миновало! А пели тогда будущие члены-корреспонденты Академии наук, будущие заслуженные артисты России, известные через годы литераторы. ...Слава Богу, миновало! Все эти «сокрушители» на деле оказались истинными сынами России. Стали достойными людьми! Мы — молодые поэты, как это было всегда, жили надеждами на издание своих сборников. Но нужна была поддержка Союза писателей. От личных желаний ничего не могло случиться. Вспоминаю, как мы со вздохом слушали далекие рассказы о том, как при «царе Горохе» можно было напечатать книжку стихов, предоставив деньги! Это вызывало у нас только насмешки. Потому сцена Дома ученых была как бы устным твоим изданием. Наши вечера собирали молодежь. Мы, разучив стихи, знакомили всех собравшихся с хорошими, но забытыми поэтами. Затем решились и «себя показать». Я решился на это первым. Это случилось в начале декабря 1961 г. Мой «первопечатник» — Дмитрий Беляевский — опубликовал в «Горьковском рабочем» свою статью «Два часа стихов». Все это было новым и удивительным. Ни танцев, ни ансамблей, и вот вам — два часа стихов! Я так волновался, что плохо запомнил порядок чтения. Но он был! Но, главное, что в тот давний вечер я прочитал те стихи, многие из которых, я поныне включил бы в свое «Избранное». Это и «Андрей Рублев», «Хохлома»; «Считайте годы по веснам...», «Ложкари»... Только сейчас вспомнилось, что многие из этих стихов я написал изустно, во время моих возвращений из Дома ученых. Я, проводив Пильника в машину, уходил по тихой и слабоосвещенной Ошаре. Она была плохо убрана, ее не любили владельцы машин. Улица — грязная, особенно весной и осенью. Но она располагала к пешим прогулкам. Поэтому она, на моем одиноком возвращении домой, располагала к сочинительству. Приходя к своему столу, я тут же порою садился и начинал писать новые строфы! После вечеров были обсуждения. Здесь поначалу появлялся обязательно молодой преподаватель из Строительного института Аркадий Барахович. Он уже тогда блестяще импровизировал эпиграммы, создавал, сидя в зале, пародии. Серьезные разговоры вел умница, студент пединститута Марк Габелев; молодой искусствовед, выпускник МГУ Слава Филиппов; всегда точный и вежливо-ироничный Лазарь Шерешевский и, особенно, живой, запальчивый и убедительный Толя Альтшулер, что учился у Леонида Фарбера на филфаке пединститута. Ныне его знает вся культурная Россия как Анатолия Смелянского, ректора школы-студии МХАТа, соратника Олега Ефремова и Олега Табакова. Сколько с ним говорено в юности, какие неожиданные и точные оценки поэзии он давал. Он прекрасно читал стихи. Мы особенно просили его в компаниях почитать строки Евтушенко, Слуцкого, Вознесенского. Все понимали, что перед нами будущий ученый (как это же сразу решили в студенчестве о нашем университетском пушкинисте — будущем профессоре Всеволоде Грехневе). Толя Альтшулер после института преподавал в школе в Гордеевке. Как-то попросил меня выступить у него в классе. После вечера мы с ним сидели, кажется, в кафе в доме-утюге на Московском вокзале. Он очень доверительно сказал мне, что ему предлагают стать завлитом в ТЮЗе. Как быть? Он, конечно, думал о научной работе. — Убьют тебя из рогатки твои гордеевские школьники, — глупо сострил я. — Конечно, иди! Все же там театр! Альтшулер-Смелянский пришел на должность, которая была по душе. Тогда уже режиссером, кажется, стал Наровцевич. ТЮЗ переживал свое великое возрождение. Шли шестидесятые годы. Толя Альтшулер был восторженным поклонником Михаила Булгакова, которого Россия начинала только открывать. Булгаковским наследием занимался Константин Симонов. Он возглавлял комиссию. Готовя кандидатскую диссертацию, Альтшулер обратился к нему и получил горячую поддержку. Оригинально мыслящий человек приглянулся в Москве и стал завлитом в МХАТе. Ведущим автором театральных изданий. Статьи уже подписывались А. Смелянским. Таким он вошел «как стопушечный корабль» в отечественное театроведение. Стал авторитетнейшим критиком в искусстве. Слушая о нем высокие мнения, я всегда радуюсь, потому что «пильниковское гнездо» привечало и любило его. Недавно нашел в случайной папке газету «Горьковский университет» за 1 мая 1962 года. На первой полосе этого четырехлистового номера мой рисунок: весенние березы с красными флагами, просыпается природа... На четвертом листе — моя подборка стихов, вся забитая стихами... «Натка», «Считайте годы по веснам»... А вот и посвященное Борису Пильнику — «Провинциальные Гомеры»: Провинциальные Гомеры! Не согревала слава их: Ты в школьных не найдешь примерах Ни первый, ни последний стих. История, как через сито Не всех пускает в век иной. И сколько скрытых и забытых, И обойденных стороной. Отдавших дни свои и ночи Для беспокойных дел людских, Поэзии чернорабочих, Литературы рядовых. Но не каких-то три фигуры, А тысячи во тьме времен Несут вперед литературу Не оставляя в ней имен. Пусть незаметны эти лепты, Пусть в строках не звучит набат, Но классики без них нелепы, Как генералы без солдат! Вспомнились стихи... Они написаны за двадцать два года до кончины Бориса Ефремовича. И опять, словно из какой-то ветхой дымки возникает комната, где сидит за столом Пильник со своим «суворовским хохолком». У него снова «пестрый народ»! Талантливый и вечно пишущий «Мою поэму» Анатолий Вострилов, который на вечерах, объявляя себя, добавлял: «Вострилов. Вачский район». А возле моего однокашника по филфаку — самоуверенный поэт Николай Могучее, или автозаводец Аркадий Кругляк, про которого Пильник всегда говорил: «Он — уникальный автор! Его статьи можно читать и с конца и с начала! Не пробовали? Попробуйте! Учитесь! Он мастер газетных строф!» Пильник сидит, опять окруженный принесенными стихами, рассуждает: «Блоха», «блоха». Ну, да ладно... Ладно!..» — и глубокомысленно вздыхает. Лазарь Шерешевский частенько приносит «свое открытие» — перлы из местных газет. Некоторые из них изумительны по глупости. Помню их поныне. Это образцы газетной лирики, что приносились из глубин редакций. Пушкин — он вечен в черной стезе графомании. Вот зачин «элегии» о его гибели: В Черной речке солнце мочится... А вот другое откровение на тему внезапной гибели на дуэли Пушкина: О, как терпел от жандармеи Свободный, гордый, наш певец: Всю жизнь его кусали змеи, И закусали наконец! Или вот стихи о Владимире Ильиче Ленине, о его мавзолее: Спи, Ильич, ты мой прекрасный, Баюшки-баю. Тихо светит месяц ясный В мавзолей твою! Лазарь бросал на ходу импровизации. Так, о Владимире Автономове, который начинал работать в леспромхозе инженером, прекрасно знал Ветлугу и Керженец, воспел эти места в своих добротных стихах, которые я очень любил за их бесхитростность и чистоту любви. Лазарь Шерешевский сказал необидно, но потрясающе точно: «Чем дальше в лес — тем больше строф!». ...Откос — это сбежавший простор волглого ветра, а в августе — с ним скованный, подсыхающий запах травы, первые золотистые пряди, появлявшиеся после холодных утренников в плотной завесе листвы... В вечерние часы последних дней лета на Нижегородском откосе — съезд юности нашего города. Ладные и приодетые по-праздничному девушки, парни, повзрослевшие — все выходят, все входят, безошибочно веря в счастливую неожиданность встреч. Вот навстречу мне движутся «пильниковцы» — Толя Гринес, Ира Морозова. — Где был? Чего написал? Читал ли стихи такого-то в «Огоньке» или в «Новом мире»? Был ли у Старика? Его возила Лидия Николаевна в Коктебель. Борис Ефремович так загорел! Старик обязательно угостит вас новыми стихами. Посмотрите: вон возле музея Коля Рачков уже зачитывает каких-то девиц своими строфами! Пойдемте... выручим красавиц! Шестидесятые годы. Родной Откос. У поэтической молодежи звенит в памяти упругий голос Бориса Корнилова, в которого все тихо влюблены: В Нижнем Новгороде с Откоса Чайки падают на пески. Все девчонки гуляют без спроса И совсем пропадают с тоски! Удивительно, почти «магнитофонная» память на прочитанные стихи. Встречаю возле памятника Чкалову своего старого друга студента-биолога Васю Неручева, мы «движемся» с ним до конца «рамени». Сейчас в это трудно поверить — это два километра. Но живы еще соучастницы этих поэтических хождений. В одну сторону Вася читал мне «наизусть» Гумилева и Мандельштама. У здания спецбольницы мы разворачиваемся, идем на закатное небо, и я уже читаю ему свои пристрастия: строфы Баратынского и стихи Тютчева!.. ...Жара спадает. Диск оранжевого солнца скатился за луга... Наплывает сиреневый мир августовских сумерек. На площадке, чуть ниже Георгиевского съезда, вспыхнула дуга огней над открытым поясом эстрады. К микрофону подошел человек. Его голоса не слышно. Но мы останавливаемся. Мы знаем, что это говорит, это предворяет выступление симфонического оркестра Марк Маркович Валентинов. Он долгие годы был режиссером Оперного театра, а еще он назван великим знатоком книги. Он живет в соседнем домике на Ошаре, который окружен садом. Я шапошно знаком с его дочерью — художницей Агнией, мимолетно бывал у него... Проснулась музыка. Она рождалась там, внизу, на половине горы. Кажется, словно волна набегает на травянистые склоны, но, отразившись от них, она снова откатывается, уплывает через плесы успокоенной Волги, дальше к широкому миру лугов. Вечерние концерты на Откосе к красоте: Волга, стихи и симфоническая музыка. Троеединство доброго познания мира! Просыпает над мокрой булыжной мостовой свои листья осень. Заколышется надпись «Осторожно, листопад». И снова соберемся мы в «пильниковской академии». Поэтические вечера нижегородских авторов станут традицией Помню такие вечера нижегородских авторов самого Бориса Пильника, Александра Цирульникова, Лазаря Шерешевского... Время таких вечеров — 1961-63 гг. Храню простые и уютные билетики той поры! На моем билете стихи из «Поэмы о ритмах»: Жизнь — это поэма, Где мысли — острее бритвы, Где часто меняются темы, Где круто ломаются ритмы! Вот так. Это была биографическая вещь! Где каждая главка писалась то частушечным размером, то ли чуть ли не гекзаметром! Все занято! Правда, у меня была еще поэма об Андрее Рублеве — «Спокойствие». Конечно, «Поэмой о ритмах» я привиделся всем тогда «боевым формалистом». Слава Богу, никогда не включал эти две поэмы в свои сборники. Часто вечера в Доме ученых проходили в виде турнира, устанавливались места победителей и давались, благодаря Марине Кацнельсон, щедрые дары: у меня до сих пор стоят выигранные стихами собрания сочинений Гейне и Стендаля. Секция поэтов дружила со студийцами при нашем Драмтеатре. Особенно активным был Костя Кулагин, ныне заслуженный артист России и режиссер ТЮЗа. Вместе со студентом ГПИ Марком Габелевым он поставил на сцене Дома ученых «Балаганчик» Александра Блока. Да, в ту пору мы печатались нечасто, но чаще нас приглашали на выступления наши славные «радисты»: старейшина Вениамин Григорьевич Менхен и ещё молодые в ту пору Толя Бурдов и Вера Соколовская. Мы читали свои стихи на радио. ...Но вот по городу, в вузах, в школах, в научных институтах, в клубах мы появлялись часто: молодых поэтов все хотели видеть, читали в газетах, слушали по радио и, очень редко, видели на телевидении. Но каждый вечер — это бесконечные вопросы, где всегда вставали отношения к «кумирам» — Евтушенко, Вознесенскому, Рождественскому, Ахмадулиной. Проза интересовала меньше... Конечно, повести Гладилина, Аксенова, Казакова, Балтера было не знать — неприлично! Но поэзия шла к людям через театральные двери. Шло прямое общение со сцены, и город, смею думать, любил нас и знал не меньше артистов. На вечера молодых поэтов шли пожилые люди и радостно воспринимали. Мы очень быстро научились писать с «намеками». Это живо угадывалось! Встречами с известными писателями в стране мы не были избалованы. Я знал, что как-то к Пильнику заезжал Павел Антокольский, который до войны был режиссером Горьковского областного театра (был такой для обслуживания села!). Арзамас и Сергач — вспоминаются в стихах Антокольского в связи с гастрольными поездками. Потом, кажется, Александр Ященко приводил к нему Виктора Шкловского... Но вот, однажды, в осеннюю пору приехала бригада «Литгазеты» в составе Леонида Лиходеева, популярного фельетониста, поэта Бориса Слуцкого, который только входил в славу, и мало известного заведующего отделом поэзии Булата Окуджавы. Книгу стихов «Острова» имел из нас только Саша Цирульников. Он, как рассказывал, только купил ее утром того же дня. Книга имела тираж всего 2000 экземпляров. Но москвича хорошо знал Лазарь Шерешевский. Булат Окуджава попросил найти ему гитару на вечер. Гитару взяли в прокатном пункте. В зале было народу человек пятьдесят. Так что призывы подписаться на газету были почти пустыми! Что-то говорил Лиходеев. Потом Борис Слуцкий прочел почти хрестоматийные стихи, он же потом передал эстафету на вечере Окуджаве, сказав, что Окуджава не только сочиняет стихи, но и создает музыку, сочиняет песни. В ту пору было странно, даже дико видеть поэта, пишущего мелодию для своих стихов. Гитару приветствовали несколько сдержанно! А после вечера Шерешевский повел гостей к себе «на чердак». Он жил за Оперным театром, то ли на Дунаевой, то ли на Невзоровой, под самой крышей двухэтажного деревянного дома, где в чердачной части была выгорожена досками будка-комната. Я там бывал нередко: зимой холод бил изо всех щелей, а дым плыл из дырявой печки прямо в лица! Вот такая была поэзия. Конечно, потом, когда через год-два пленки с Окуджавой заполнили всю страну, мне стало жалко, что в тот день не пошел на «вечерку», куда меня упорно зазывала Геля, жена Шерешевского. Любопытно, что Окуджава, обещая вернуть «Острова», взял их у Цирульникова. Тираж у книги был смешным по тем временам. Через годы он прислал Саше через редактора телевидения Мирру Свердлову свою книгу «Путешествие дилетантов». Мою первую любовь к поэтической гитаре не сломал шумный и уже изрядно надоевший Владимир Высоцкий. Окуджава умел говорить с душой доверительно, даже застенчиво! У меня нет никакого права расставлять бардовские таланты. Но есть одно право, оно неоспоримое — право сердца! В шестидесятые годы, на днях поэзии в ЦДЛ я познакомился почти со всеми знаменитыми литераторами от Александра Твардовского до Анастасии Цветаевой с ее маленькой комнатой вблизи Тверской. Но с Окуджавой был лишь раз рядом: это случилось на вечере в Политехническом музее. Где-то в 1975 г. Союз писателей России стал превращаться в помойку перебранок. Не стало еще недавнего дружеского ЦДЛа, где было мирное дружество. А пленумы правления, где был я с 1970 г., превратились в говорильню ради личного утверждения, шлюзы стали открытыми для прежде даже неведомых карьеристов в литературе. Последний раз я взобрался на сцену Дома ученых еще в стиле нашей пильниковской «секции поэзии» в сентябре 1964 г., когда после поездки по командировке ЦК ВЛКСМ группа горьковчан: художник Шихов, кинооператор Красиков и пианист, проректор консерватории Данилейко и я рассказывали о своей поездке на Кольский полуостров. Вот тогда, следуя лаврам Окуджавы, я под аккомпонемент Володи Дуркина пел свои песни о Севере, о плато Расвумчорр. Эти песни до сих пор, слышал поэт, поют то в Питере, то на Камчатке. Как-то до меня донеслась в ночной передаче песня о «Двадцать втором июня». Начались новые времена, времена «Данко», времена «Воложки» Валентина Николаева. Там были люди, что пришли в горьковскую культуру после середины 1970-х годов. Я не помню, когда в последний раз на сцену Дома ученых вышел ведущий и прочел стихи-заставку, которую мы когда-то отыскали в «Литгазете», в подборке Леонида Заливняка: Снова стихами повеяло От молодой травы, Я каждому слову поверю, Которое скажете вы. Поверю, что вы наступаете По руслам новых дорог. Прочтите мне только по памяти Десяток хороших строк... Я вспоминаю их ныне, в ожидании 100-летия Бориса Ефремовича Пильника. Этот день придет к нам в августе. Мы шли рядом с ним, мы — дети его мудрого учительства, которое не прекращается и поныне. Вертикаль. Выпуск 6, 2003 г.
Валерий СДОБНЯКОВ. ОБЗОР ЖУРНАЛА «ВЕРТИКАЛЬ. ХХI ВЕК» № 52, 2017 год На обложке репродукции картин художника Марии Владимировны Заноги. Последняя в 2017 году книжка журнала «Вертикаль. ХХI век» открывается подборкой стихов поэта из Минска Анатолия Аврутина «Такое время… Сентябрит». Вдали от России непросто быть русским поэтом, Непросто Россию вдали от России беречь. Быть крови нерусской… И русским являться при этом, Катая под горлом великую русскую речь. Вдали от России и птицы летят по-другому – Еще одиноче безрадостно тающий клин… Вдали от России труднее дороженька к дому Среди потемневших, среди поседевших долин… Будущий 2018 год для поэта юбилейный. Публикацией этого стихотворного цикла редакция «Вертикали. ХХI век» поздравляет своего постоянного автора, главного редактора русского литературного журнала в Белоруссии «Новая Немига литературная», лауреата многих литературных премий с предстоящим 70-летием. Многолетний издатель альманаха «Тула» из города Щекино Тульской об
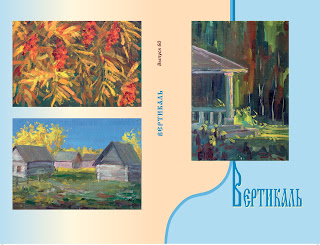



Комментарии
Отправить комментарий