Валерий СДОБНЯКОВ. ИХ ИМЕНА НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ РОДИНОЙ*. АЛЕКСАНДР ПАТРЕЕВ. Журнал «Вертикаль. ХХI век» № 97, 2025 г. *Продолжение. Начало в № 96
ИХ ИМЕНА НЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ РОДИНОЙ*
Продолжаем цикл публикаций материалов из архива
Нижегородской областной организации Союза писателей России.
Третьим принятым в
члены Союза советских писателей (на правах стажёра) по Горьковскому краю по
решению приёмной комиссии в члены Союза советских писателей от 1 июня 1934 года
стал Александр Иванович Патреев, который вместе с Н.И. Кочиным и М.В.
Шестериковым был среди тех, кто основал нашу организацию.
Представляем наиболее значимые, на
мой взгляд, материалы, хранящиеся в его личном деле.
АЛЕКСАНДР ПАТРЕЕВ
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Патреев Александр Иванович
1900 – 1974
Писатель
Начато 9 марта 1938 г.
Окончено 22 февраля 1974 г.
На 84 листах
Открывает
папку пожелтевший лист типографской печати Московского Химико-Технологического
Института им. Д.И. Менделеева. Тираж 5000. Анкета заполнена рукой А.И. Патреева
ручкой синими чернилами. Почерк разборчивый, но не отличающийся особенной
аккуратностью.
АНКЕТА ЧЛЕНА
ЛИТФОНДА
1. Фамилия/ Патреев имя /Александр
отчество/ Иванович
2. Год рождения/ 1900
3.
Образование/ Окончил литературное отделение Педагогического института и два
курса естественно-биологического
4. Соцпроисхождение/
крестьянин
а) бывшее сословие/
крестьянин
б)
место рождения/ деревня Мещера Павловского р-на, Горьковской области
в)
основное занятие родителей/ до 1914 года отец занимался сельским хозяйством,
потом ушёл в псаломщики, потом в попы
5. Национальность/ русский
6.
Партийность (член или кандидат ВКП(б), указать с какого года в партии и №
членского билета/ беспартийный
7.
Состоял ли ранее в других партиях/ (пропущено)
8.
Принадлежность к ВЛКСМ/ (прочерк)
9. Жанр/ проза
10. Член или канд. ССП/ №76
член Литфонда с/ 1935 г.
11. Член какого групкома/(пропущено)
12. Литературный стаж с/
1929 года
13. Место постоянной
работы и должность/(пропущено)
14. Среднемесячный
заработок в 1937 году/ 400 рублей
15. Семейное положение/
женат, на иждивении – дочь, возраст 12 лет
16.
Жилищные условия (количество комнат и их метраж)/ хорошие, три комнаты – 52
метра
17. Адрес/ г.Горький,
Верхняя волжская набережная, дом (неразборчиво) кв. 15
Дата/ 9 марта 1938 г. (Подпись) А.Патреев
На
обратной стороне приклеен листок, заполненный от руки.
18.Основные литературные
произведения
Приложение к
листку А.Патреева
Перечень написанных и
изданных трудов:
1. «Крепнут звенья» –
рассказы. 1932 г. в Горьком
2. «В зелёных цехах» –
очерки – 1933 г. "–"
3. «Стране нужен лес»
«Ударный рейс» очерки – 1934 "–"
4. Роман «Таблица Крафта» –
1934 г. "–"
он
же переиздан под названием «Глухая рамень» – 1936 "–"
он
же переиздан "–" – 1937 г. в Москве
5. Три радио-повести 1933-35 г.
6. «Страна родная» –
рассказы 1936 г. в Горьком
7. «Страницы живой
истории» очерк. 1938 г. в Москве
8. Рассказ – 1939 г. В москов.
журнале «Колхозник»
9. Несколько очерков и
статей – в местной печати в разное время
10. Роман «Инженер».
Выйдет 1940 году
11. «Голубые поля» –
очерки о колхозе. 1939 г. в Горьком
12. Учебная книга для
чтения в школе 1933 г. – в Горьком
переиздана
– в 1934 г. – "–"
13. Учебная книга по рус.
языку. 1935 г. "–"
октябрь
39 г. А.Патреев
По
всей видимости, текст биографии, отпечатанный на пишущей машинке на семи
страницах плотной бумаги, был сразу предназначен как приложение к «Анкете члена
Литфонда». Есть в нём небольшая авторская правка синими чернилами. Как и
прежние два документа, этот также подписан «живой» подписью Александра
Ивановича.
БИОГРАФИЯ А.И. ПАТРЕЕВА
Родился 21 ноября 1900 г. в семье бедных крестьян
деревни Мещеры, Павловского района, Горьковской области. Семья была очень
большая: у отца 4 чел. детей; сестра отца овдовела, тоже пришла с двоими детьми
в наш дом. Вся «власть» в доме и хозяйстве принадлежала дедушке и бабушке, хотя
они мало работали в поле: дедушка был полуслепой, бабушка постоянно хворала.
Все жили в одной избе, крайне недружно. Вели два
«хозяйства»: одно – дедушка и наша семья, второе – бабушка с дочерью. Ели тоже
порознь – сперва одна семья, потом вторая. Взрослые члены семьи резко делились
также по вероисповеданию: моя мать и дедушка православные, а бабушка, отец и
сестра его – староверы. К врачам относились враждебно и в больницу никогда не
обращались за помощью, хотя болели часто; старший брат мой ослеп от оспы.
Необеспеченность, теснота, дикость нравов, неуважение
друг к другу были причиной постоянных скандалов и драк взрослых при детях. Отец
четыре раза уходил в раздел, но жить было негде – и опять сходились вместе.
Мою мать, взятую из совершенно неимущей семьи,
буквально травили, особенно изощрялась в этом бабушка – умная, капризная и
хитрая старуха.
Отец лет 8 ходил на рыбные промыслы в Астрахань, а обе
семьи работали по зимам на горбатовских купцов – Стешова, Спирина, Склянина, –
вили верёвки на «просадах» /маленькие кустарные предприятия/. С семи лет меня
порядили вертеть колесо на просаде мужика Лимова. Приходилось вставать /зимой/
в 5-6 часов утра и работать до 9-10 часов вечера. Хозяин платил мне три
пудовика зелёной муки за период с Покрова дня до Пасхи. /Зелёной мукой
называлась белая мука низшего сорта – с зелёным клеймом/. На другом предприятии
работал мой брат, он был старше меня на 2 года. Работали мы с Покрова дня до
Пасхи, до начала весенних полевых работ. Несколько лет подряд в нашем хозяйстве
не было лошади и землю сдавали с исполу.
Грамоте учила нас мать, потому что она была
пограмотнее прочих, учила по псалтирю. В деревне нашей и в соседних деревнях школы
не было. Отец вернулся с рыбных промыслов больным – у него отнялись ноги и
около 6 месяцев лежал в Горбатовской больнице, где близко сошёлся с одним попом
– религиозным фанатиком, человеком с академическим образованием. Отец попал под
его влияние и дал обещание: посвятить себя богу, если только выздоровеет. Врачи
подлечили его, и он вышел из больницы с твёрдым решением уйти в монастырь. С
этих пор он стал православным и очень религиозным, читал церковные книги и мало
работал по хозяйству. В семье начались страшные скандалы.
Накануне войны 1914 года он стал начётчиком,
приходский поп посылал его вести в деревнях беседы, потом его зачислили
миссионером и послали на курсы в Нижний. Будучи 45-46 лет, он получил
назначение – в псаломщики в Семёновский уезд, и уехал туда один, потому что в
семье все были против такого его решения, а в деревне над ним мужики смеялись:
«Иван с ума спятил». Через некоторое время он приехал за матерью и увёз её с
двумя малолетними детьми. Меня и брата старики не пустили, и мы продолжали
зимой работать на просадах, а летом – в поле. В это время у нас опять не было
лошади.
В соседней деревне Борках открыли школу и мы с братом
стали учиться по очереди: одну зиму учится он, а я работаю на просаде, вторую
зиму учусь я, а он работает, и так чередовались, пока оба не кончили сельскую
школу. Дедушка из года в год плёл лапти, и нас держал при себе, надеясь, что
надел земли, после отъезда моего отца, останется за мной и братом. Но отец сам,
в противовес старикам, написал обществу письмо, в котором добровольно
отказывался от своей земли и лишал нас и стариков надела. С этого времени
дедушка и бабушка стали относиться к нему крайне враждебно, и эта вражда не
прекращалась до дня их смерти. Оба они так и умерли в деревне: один в 1925
году, другая – в 1927 году, и всё время это жили необыкновенно бедно.
Мой брат учился в горбатовском ремесленном училище, я
сдал туда тоже и каждую неделю /на воскресенье/ ходили домой в Мещеру к
старикам. Летом пахали землю. Потом отец насильно взял нас обоих и заставил
держать экзамен в нижегородское духовное училище. Брат провалился на экзамене,
а я сдал, и оба плакали, потому что не хотели идти порознь. Царили в этой школе
самый жестокий произвол надзирателей, казарменный быт. В 1916 году я убежал из
школы, думая добраться до фронта, в Вязниках меня вытащили из-под лавки и
водворили на старое место. Издаваемый нами рукописный журнал «Вперёд» мы
выпускали тайно и прятали его на чердаке. Два раза смотритель Пальмов
приказывал делать обыски, находили журнал, отбирали, а четвёрку учеников –
редакцию журнала, в которую входил и я, – вызывали к самому смотрителю; потом
вызвали отца для внушения, и он пригрозил мне, что «не даст ни копейки, если я
не возьмусь за разум».
Участие в этом журнале, где были мои «Очерки новой бурсы»,
стало началом моего увлечения сочинительством. Ученики старших классов почти
поголовно были атеистами.
В феврале 1917 года в училище заперли все двери и даже
не пускали учеников на улицу. В день общей демонстрации во всех классах
выставили в форточки красные флаги и кричали демонстрантам: – Спасите! Усмирять
«бунтарей» приехал сам архиерей; вскоре всю школу распустили, и я уехал в
Мещеру, боясь расправы отца. Отношения у меня с ним были и прежде плохие, а
теперь испортились окончательно.
Братья матери: Фёдор Никитин, вступивший потом в
партию, и Иван Никитин, рабочий нижегородского железнодорожного депо, убитый на
фронте в 1916 г., были моими советниками. Они не любили моего отца, и очень
жалели свою сестру /мою мать/, но вернуть отца на прежнюю трудовую дорогу не
смогли ни раньше, ни теперь, а он был настойчив и упрям не в меру.
Осенью 1917 года я снова приехал в Нижний с намерением
поступить на пароход, но это не удалось, да и документов у меня никаких не
было. Я поселился в Канавине у дяди, который был стрелочником с молодых лет. Он
хотел устроить меня в товарную контору, но не удалось, потому что почерк у меня
был мелкий и неразборчивый. Деваться было некуда, а ехать к отцу не хотел. Живя
в Канавине и буквально голодая зимой 1917-18 г., я раза два-три в неделю ходил
на занятия в семинарию, поступив вольным слушателем, а в марте заболел и уехал
из города в село Якшень, где служил отец. Осенью я приехал в Лукоянов и поступил
во II-ую ступень. О моём существовании отец забыл и почти
ничем не помогал, хотя я всё лето проработал в поле. Раз в неделю я приходил в
Якшень, чтобы взять каравай хлеба.
В 1921 году я кончил вторую ступень и поступил
учителем в село Крюковку, Лукояновского уезда. Вскоре был призван в Красную
Армию и пересыльным пунктом направлен на ремонтный завод /аэр.воздух № 2/ в
аэродромную команду. После демобилизации военкомат мне дал командировку во 2-ой
Московский университет на химико-фармацевтическое отделение, но я знал, что стипендию мне не
дадут, да и эта фармацевтия не интересовала меня, и я остался на заводе в
качестве рабочего, в разборочной мастерской. Весной случилось несчастье – в
правый глаз попала окалина /я работал на щётке по очистке элеронов/, и около
трёх месяцев я лечился. С работы пришлось уйти. Осенью я поступил опять учителем
в село Ужово, Лукояновского уезда, потом в село Байково и по 1927 год вёл
большую общественную работу – в комитете взаимопомощи, в кооперативе, по
проф.организации волости, по ликбезу, был режиссёром драмкружка и начальником
пожарной дружины и т.д. Участвовал в работе волостного и уездного съездов
советов.
Чувствуя полную независимость от отца, я с большим
рвением пытался теперь убедить его, чтобы он оставил своё ремесло и взялся бы
за прежний свой труд. На мои убедительные настойчивые письма он отвечал резко,
обзывая меня «нехристем, с которым он теперь не будет есть из одной чашки, как
с неверным». Исчерпав все средства убеждения, я отступился.
24 января 1924 г. я приехал к нему, чтобы окончательно
порвать всё и произвести законный раздел. За одно уж с этим я организовал в
селе, где жил отец, ячейку комсомола, которая вскоре выселила отца из
занимаемого им дома, а я продолжал помогать комсомольцам, присылая им газеты.
С этих пор отец перестал для меня существовать вовсе,
и я совершенно уже не интересовался его судьбой, не писал писем и не получал
писем от него. По слухам, которые дошли до меня, он был выслан куда-то, году в
1928 или 1930 гг. Дедушка и бабушка продолжали жить в деревне Мещере, и я по
летам навещал их, помогая работать в поле. Они были уже древние старики, но к
попу на иждивение не хотели ехать.
В 1927 году я поступил в институт, и сдавал зачёты
одновременно по двум отделениям – литературному и естественному, не прекращая
педагогической работы, потому что стипендии мне не давали. Преподавал
литературу на вечерних рабочих курсах по подготовке в вузы и втузы, потом в
рабфаке МИИТа. В 1930 г. я кончил институт и полтора года работал помощником
директора в Канавинском комбинате рабочего образования, который включал в себя
4 техникума и 8 курсовых мероприятий.
С 1933 по 1937 г. работал редактором художественной
литературы в Горьковском издательстве, премирован 3 раза.
Моя литературная работа началась с 1920 года, когда я
написал пьесу о революции в городе «Два дня»; её поставили на сцене преподаватели
II-й ступени. В тот же год была мной написана поэма о
кулаках и попах, она напечатана в виде листовки, которую потом Лукояновский
политпросвет расклеивал на витринах и заборах города.
В 1929-30 г. написал антирелигиозную пьесу, которая
была одобрена ЦК союзом безбожников. В 1930-33 году писал учебные книги для
школ I-й ступени и одна из них была одобрена Наркомпросом и
издавалась 2 раза по 100 тыс. экземпляров. За последние пять лет мною написаны
следующие книги и работы:
«Крепнут звенья» – рассказы для детей,
«В зелёных цехах» – очерки.
«Таблица Крафта»/ Глухая рамень/, роман – изданный в
Горьком два раза и 1 раз в Москве.
«Страна родная» – книга рассказов.
«Страницы живой истории» – очерки об автозаводе,
напечатанные в юбилейном № «Наша страна».
«Золотое гнездо» – пьеса в 4-х актах, принятая
Цедрамом для распространения.
В настоящее время заканчиваю роман «Инженеры» на
современном материале и пишу повесть для юношества «Жил старик на болоте» – о
строительстве большого завода и судьбе одного единоличника. Задумана ещё
повесть о Волжской военной флотилии.
27
апреля 1938 г. (Подпись) А.Патреев.
Что в этой биографии не может не удивлять, как это
совершенно минимальные сведения о том, как почти безграмотный мальчишка пришёл
в литературу, что за творческая среда была в то время в Нижнем Новгороде, кому
он показал первые свои произведения, кто его поддержал, указал на недостатки,
помог обрести литературный опыт. Наконец – где его первые произведения
печатались, в каких газетах, с какими редакциями автор начал сотрудничать?
Много возникает вопросов, на которые хотелось бы получить ответ.
Следом идёт большой текст на семнадцати страницах
опять же напечатанный на пишущей машинке. В левом углу первой страницы на
уровне заголовка резолюция синими чернилами: «дело» (подчёркнуто – В.С.). Кто
её поставил, как и кто сделал подчёркивания всё теми же чернилами в тексте (мы
их сохранили так, как это в оригинале), теперь установить невозможно.
Сам текст автором не подписан, дата написания не
указана.
КАК УЧИЛИСЬ И ЖИЛИ ДЕТИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
И КАК ЖИВУТ И УЧАТСЯ ТЕПЕРЬ
А. Патреев.
Когда я перебираю в мыслях пережитое,
невольно каждый раз особенно отчётливо вспоминаются мне первые годы моего
сознательного детства в годы учения дома и в школе.
О своём детстве
я хочу рассказать отнюдь не потому, что оно было чем-либо замечательным,
особенным, отличным. Нет, как раз наоборот: я хочу рассказать о нём потому, что
оно, почти ничем не отличаясь от детства моих сверстников, переживших примерно
то же, является типичной картиной прошлого, которое пришлось пережить миллионам
крестьян и рабочих нашей страны.
В самом деле, ведь
только девятнадцать лет отделяют нас от этой страшной и тёмной поры, которая
вошла в историю под названием «царского времени». И память наша, конечно,
не утратила и не должна утратить того, что было в жизни до великой Октябрьской
революции.
Я родился в
деревне Мещере Горбатовского уезда. Эта маленькая соломенная серая деревенька
состояла из шестидесяти дворов, и только два дома – деревенских торговцев –
были покрыты железом. Она приютилась на длинном глинистом холме в овражистой
местности, закутана вишнёвыми садами. Мужики и бабы летом пахали тощую землю,
по зимам вили на просадах верёвки на
Горбатовских купцов – Стешова, Спирина, Склягина, Смолина и других; многие от
бедности уходили на заработки – в Астрахань, ловить на море рыбу.
На просадах и в
поле работали также и малолетние дети наряду со взрослыми.
Помню – редких
мужиков в деревне звали по имени и отчеству, всё больше – по прозвищу –
Собакины, Колдуновы, Таракановы и т.п. Жили недружно, злились, завидовали,
судились, дрались, поджигали… Мещера горела ежегодно по два – по три раза.
Погорельцы рыли землянки, таскали из уцелевших сараев домашний скарб и по
нескольку лет жили в этих тесных, сырых и тёмных норах. Много было
безлошадников.
Наша изба стояла
над оврагом,
а на дне оврага был вырыт единственный на всю деревню колодесь, мимо которого
бежал из деревни мутный, загрязнённый ручей.
Мещеряки, жившие
в 12 верстах от Павлова, в 8-верстах от Горбатова, были почти поголовно
неграмотны.
Ни в самой
Мещере, ни в окрестных деревнях – Мунькине, Фомнине, Тимонине, Пестрякове – не
было школы. Ребята, не говоря уже о девочках, не учились, а дома было не у
кого, да и некогда, потому что с 7-ми, с 8-ми лет детей заставляли работать в
поле и на просадах – вертеть колесо, или чистить и скрести овечьи шкуры в
овчинных мастерских у зажиточных мужиков.
Помню: Васька
Михеев – первый из моих сверстников – в 1908-м году стал ходить в село Чмутово
/за 4 версты от Мещеры/ и там дьякон учил его грамоте по псалтырю. Мы с братом
завидовали этому счастливцу, просили отпустить и нас, но 6 рублей в зиму не
хотели за нас платить ни отец, ни дедушка.
Из жалости к нам мать, бывшая пограмотнее отца,
начала учить нас по-своему. По вечерам, когда я приходил с работы /я вертел
колесо на просаде у Лимовых/, она усаживала нас с братом у бокового окошка, где
висела с ребёнком зыбка, клала за спину толстую скалку для большего внушения и
устрашения, и, путаясь сама, и раздражаясь на наше непонимание, твердила, тыкая
в страницу пальцем: – ба, ва, га, да, жа, за… – бу, ву, гу, ду, жу, зу…
Пока что такая премудрость мне не казалась трудной, и
скалка ни разу не пригодилась матери. Но потом стало всё труднее, не только для
меня, но и самой матери. Она не умела ничего объяснить, втолковать, она
требовала только повторять и запоминать написанное. Брат был старше меня на два
года, и он кое-что усваивал быстрее меня.
– Бра, вра, гра, дра, жра, зра, – монотонно читала
мать, укладывая ребёнка. Я старался произносить так же, но у меня, к несчастью,
буква «л» выходила так же, как буква «р», мать злилась, и сама выбиваясь из
сил, кричала на меня, нередко била, потом, жалея, плакала сама.
Занятия продолжались. В конце зимы, когда я всё же
постиг составление и произношение слов, я быстро выровнялся с братом. Мы только
читали, но не писали, не пересказывали прочитанное, а мать больше ничего уже
не в силах была дать нам, и отступилась, – мы начали сами учить друг друга:
один читает, другой следит.
Как-то однажды мы встретились с Васькой Михеевым и
спросили, как его учат. Он сообщил, что его заставляют писать и считать на
счётах и пересказывать прочитанное.
Как было не завидовать парню, который уже знал два
арифметических действия – сложение и вычитание? Палкой по снегу он даже при нас
решил одну задачу, изумив нас своими успехами.
В тот же день вечером, при свете коптящей лучины, мы
опять сидели в уголке, чтобы не мешать взрослым разговаривать о своих делах,
читали, потом один из нас шёпотом пересказывал прочитанное, потом другой читал
дальше и, в свою очередь, пересказывал тоже…
Осенью 1909 года стало известно, что в деревне Борках
– за три версты от Мещеры открывают школу.
Вскоре мы, играя на улице в прятки, увидали молодую,
не по-деревенски одетую девушку, шедшую по дороге из Чмутова, я подбежал к ней
– и спросил – ты чья?
Она остановилась, – лицо её было розовое, улыбчивое,
простое. Она сказала нам, что она – новая учительница: «В понедельник приходите
в школу. Скажите всем ребятам и девочкам».
– А девчонок всё равно не пустят, – заметил кто-то.
– Почему не пустят? – удивилась она. – Учиться всем
надо.
Мы с братом тотчас же побежали домой, но оказалось,
взрослым было совсем не до нас. Они ругались между собою, громко, на всю избу,
дедушка всё порывался встать и ударить отца, который бледный, заросший бородой
до глаз, сидел за столом.
Бабушка истошным криком кричала дедушке:
– Проучи его, проучи хорошенько. От рук отбились. Сами
хозявы стали.
Я сперва подумал, что хотят избить отца за то, что мы
с братом отбились от рук, и испугался. Я стоял у порога и размышлял о том, в
чём же именно я провинился.
– А я ничего не сделал, – готовый расплакаться, шепнул
я брату.
– Это они между собой, – так же тихо шепнул он в
ответ.
Мы
забрались торопливо на печь и там притихли. К ужину нас никто не
разбудил, так и проспали мы до утра.
За завтраком
брат запросился в школу. Я – тоже. После вчерашнего раздора все были скупы на
слова, хмуры, неласковы и не сразу ответили на вопрос брата.
–
И я пойду? – начал проситься и я.
– Что? Сговорились? – Сердито поглядел на меня дедушка.
– А работать кто будет… Одного пущу, а двоих – нет, больно жирно будет.
Мать наша робко, почтительно, чтобы не вызвать взрыв
нового гнева и раздражения, сказала: – А что бы, чай, не пустить-то? Другим
можно, а им нельзя?»
– Да, – сухо и безапелляционно заявил дедушка, –
нам нельзя: мы небогаты. Надо колесо вертеть. С котомкой бегать – никогда
не поздно, а работать – в своё время надо. Жрать-то ведь нечего. Я весь век
живу – неучёный, да не плачу. Ученье богатства не даст.
Так говорил старший в нашей семье и ему никто не смел
оказать противодействия. В этих грубых словах была заключена правда жизни.
Лето было неурожайное, в ржаном и яровом поле собрали
только семена. Мы знали, что вчера утром отец купил у нищего целую корзинку
милостинок. Распаренные куски чёрного хлеба я ел за обедом, они казались
необыкновенно вкусными. Напуганный предстоящим голодом, дедушка вознамерился
отделить отца и весь урожай хотел оставить себе. Отец не хотел такого раздела,
мать – тоже, и это явилось вчера причиной большой ссоры в семье.
Но я не думал о голоде, – мне было не совсем понятно
это; я думал о школе. Казалось, что работать на просаде будет брат, он старше
меня на два года… Я уже видел себя бегущим с сумкой в деревню Борки, а брат
идёт на просад вертеть колесо. Но вскоре дело разрешилось совсем иначе, чем я
ожидал. По настоянию бабушки послали в школу не меня, а брата, у которого
«уходили годы». Ему надо было торопиться, а я мог и подождать. Мать была против,
и хотела, чтобы меня отдали учиться. Спорили долго, и на протяжении этого
спора, в который мы с братом не смели вступить, решение клонилось то в сторону
брата, то в мою сторону, и в зависимости от этого у нас с ним менялось
настроение: то хотелось плакать от обиды и зависти, то от радости начиналось
сжиматься сердце. Так и не понял я в этот вечер – кто же из нас – я или брат –
окажется счастливым.
Утром, в полусне, я услышал голос бабушки, которая
будила брата:
– Костюшк, вставай.
Но
и я поднялся вместе с ним.
– Ты не пойдёшь в школу, лежи, спи. – Сказала мне
бабушка. – Пойдёт сперва Костюшко: он постарше. А – ты на тот год.
Он заторопился, повеселел и начал одеваться, не глядя
на меня. Это был, кажется, самый горький, тоскливый день в моей жизни. Глазами,
полными слёз и зависти, я провожал его из избы, и сидя у окна, мутного и
запотевшего, смотрел на улицу, по которой уходили мои сверстники вместе с моим
братом в школу. Их было четверо.
Он вернулся
после полден – румяный, весёлый, с полной сумкой книг, которые неизъяснимо
приятно пахли бумагой… Они были такие чистенькие, белые, с картинками, с
крупными буквами, а буквы были совсем не похожи на те, которые я знал до этого…
Уткнувшись в свою книгу, брат смотрел картины, не торопясь перелистывал
страницы, а я тоже лез к нему. Мне думалось при этом, что брат боится меня,
боится того, как бы я не похитил у него эти прекрасные книги, не отнял право
учиться первым. Но я понимал, что решение уже ничто теперь не изменит, и
неотрывно глядел на книжку, как глядит голодный человек на хлеб в чужих руках.
Через неделю
меня подрядили к Лимовым на просад вертеть колесо… За пуд ржаной муки в месяц. Прядильщики
вставали рано, часа в четыре утра, меня будили, когда ещё брат спал, и наскоро
поев горячей, полусырой картошки, я уходил из дома.
Осень в том году была холодная, рано
выпал снег, ударили морозы. На меня мать навьючивала два пиджака, ноги
обёртывала тремя портянками, в лапти набивала сена, повязывала шею своим
платком. Толстый, закутанный, подпоясанный красным кушаком, я выходил на волю,
когда ещё не во всех избах горели огни.
Просад Лимовых,
защищённый с обеих сторон плетнём и покрытый сверху хворостом и соломой,
тянулся по усадьбе на 30-40 сажен. Колесо было большое, лебёдка, за которую я
вертел колесо, была высока и мне трудно было дотянуться. Хозяин Лимов – мой
крёстный отец – принёс кормяную корзину, наложил в неё сена, и я залез туда.
Там было неудобно, корзина стесняла мои движения, зато я хорошо доставал теперь
лебёдку.
Прядильщиков
было четверо, пряли они на купца Стешова толстую бечеву, называвшуюся
«хребтиной», и потому вертеть колесо, чтобы скручивалась бечева, было
неимоверно трудно. Посконь была с кострикой, бечева часто рвалась в разных
местах и мне то и дело приходилось убегать от колеса и связывать нитки. Руки
коченели от холода, одному стоять целый день у колеса было скучно, тоскливо и
одиноко. И я гнусел разные песни, какие знал, или просто придумывал сам.
На свету, когда
в окно просада виднелось голубое, белеющее небо, хозяйка приносила своему мужу
завтрак. Он садился со своими сыновьями и дочерями на пеньку, и ели горячую
картошку, а я, чтобы согреться, бегал вдоль просада, или, остановившись, хлопал
себя руками. Иногда хозяин подзывал меня к себе, совал в руку
картошку и говорил:
– Лёньк, погрейся и ты.
Я жадно съедал и
опять начинал бегать, топать и бить себя руками. До полден, когда меня
отпускали обедать, время тянулось страшно долго… Не выспавшись за ночь, я к
полдням начинал дремать у колеса, не выпуская лебёдки. Хозяин следил за мной, и
когда замечал, что я засыпаю и перестаю вертеть колесо, он дёргал за верёвку,
тянувшуюся по плетню вдоль просада, а к верёвке этой было привязано ботало над
моей головой. Грохнет, зазвенит это ботало, и я вздрагиваю и просыпаюсь.
После обеда, на
который давалось мне час, я опять уходил на просад, возвращался только часов в
7-8 вечера. Особенно трудно было стоять у колеса после сумерек. Холодный ветер,
сухой и пронзительный, прорывался сквозь плетень, охватывал меня со всех
сторон, коченели ноги и руки, зубы стучали, и кажется, не было во мне ни
единого теплого местечка. Я уже был не в силах снять закоченевшими пальцами
верёвки с крючьев, – тогда подходил
хозяин и, отругав меня, снимал сам.
Иногда, если он
бывал в духе, он подсмеивался надо мной и говорил:
– Лёнька, скажи тпру.
Я пробовал, но
губы не выговаривали, и он смеялся.
Ближе к ночи я
уставал так, что едва стоял на ногах, и положив голову на руки на
лебёдку, так и вертел колесо, то поднимая, то опуская голову. Не выпуская из
рук холодной, железной, скользкой лебёдки, я укачивал себя и напевал разные
песни, которые все до одной получались грустными, тягучими, тоскливыми.
Вечером я
прибегал домой, где было светло и тепло, наскоро ел и просил брата показать,
что задано ему.
– Дай и я почитаю, –
говорил я.
Он показывал мне
страницу, водил пальцем и читал сам. У него была новенькая тетрадочка по трём
косым, на которой он мог писать чернилами. Я следил за его рукой, за неровными
буквами, и я мысленно силился представить себе ту обстановку, какая была в
школе. Всё это было так заманчиво и недоступно.
Через месяц у меня уже ныли руки, у основания кисти,
на изгибе выросли какие-то бугорки – острые и жёсткие. Я показал их матери.
– Это у тебя грыжа… Их разбить надо, а то калекой
будешь.
Она взяла столовый ножик и черенком начала сильно бить
по этим бугоркам. От нестерпимой боли, которой простреливало всё тело, у меня
катились слёзы, я морщился, плакал, выл, отнимал руки.
Дедушка
сидел на табуретке, плёл лапти, косился на меня и бурчал:
– А ты молчи, дурак. Это тебе на пользу. Потом
привыкнешь. У меня тоже так было.
После этого почти каждый день мать разбивала мне на
руках грыжу, и я уже не плакал, а терпеливо сжимал зубы и только морщился. А
потом и сам, без матери, научился делать это.
В среду хозяин увозил в Горбатово пряжу и получал
деньги, муку, пшено. Я принёс на спине свой заработанный пуд муки, а мать,
увидав меня в двери, заплакала.
Я заметил, что и дедушке, и бабушке, и отцу, и брату –
всем отчего-то неловко стало, все молчали, занимаясь каждый своим делом, и
только мать, обхватив меня за шею, голосила на всю избу.
Я не переставал проситься в школу, надоедал всем, и
мне, наконец, обещали, что на будущую осень я пойду в школу, а брат будет
вертеть колесо.
Эту зиму в школу ходило из Мещеры четверо ребят, брат
учился хорошо, шёл первым, но мне не говорил об этом. Я узнавал об этом или от
ребят, или от домашних. В мою душу закралось подозрение: что теперь мне не
видать школы. Раз он учится хорошо, то его не будут отрывать от ученья. Я
возненавидел его, затаился, и в книжку его заглядывал украдкой, по
воскресеньям, когда он уходил гулять.
Однажды я выпросил у него подписанную тетрадку и
тайком от всех писал в ней между строк, писал то, что приходило в голову.
Старался писать буквы так, как было написано у него. Потом я стал записывать
свои и чужие сны. Он отдал мне и вторую исписанную тетрадку. Я берёг её,
старался писать мелко, чтобы на дольше хватило и писал карандашом, чтобы лучше
видеть написанное мною.
Видя моё рвение и пожалев меня, отец однажды привёз с
базара новую тетрадь. Я с огромной радостью взял её в руки, синюю, чистенькую,
но так и не решился писать на ней. Я берёг её до осени, чтобы с ней притти в
школу.
Осенью на другой год плакал уже брат, а я, счастливый
и гордый, уходил в школу. Теперь он вертел колесо на просаде, и, наверное,
переживал то же, что и я.
Школа помещалась в избе крестьянина; в ней стояло 4
огромных парты, на каждой сидело по 8 человек. Учительница Лидия Ильинична
Виноградова учила одновременно три группы. Меня посадили прямо во вторую
группу.
То, что задавали мне, я самым аккуратным образом
подготавливал, я даже перестал ходить гулять, боясь потерять лишний час, у меня
было такое чувство, как будто меня не нынче, – завтра, или через неделю вернут
на просад и я больше не увижу школы. Я успевал прочитывать и писать новое, к
которому подходила моя группа через три-четыре дня. В школу я приходил всех
раньше, три версты, которые надо было пройти до школы, не казались мне
тягостью.
Пришла весна. Между Борками и Мещерой разлилась
речушка. В этот день меня не пустили в школу, но я заплакал и тогда от меня
отступились.
– Ну, иди, пёс с тобой, – сказал дедушка. – Какие
жадные до ученья-то.
В долине, залитой водой, я один стоял на снегу дороги,
не решаясь идти дальше… Саженях в ста начиналась деревня, виднелась зелёная
крыша школы – и я вступил в ледяную быстро текущую воду. Воды было пониже
колен, но я шёл, и ужас и бесстрашие вели меня по этому опасному месту… Из
нашей деревни в этот день пришли в школу только двое. Учительница побоялась
пустить нас обратно – как бы не утонули, и мы с великим удовольствием остались
жить в школе. Она любила детей, особенно тех, кто учился хорошо, кормила нас своим
хлебом, капустой, огурцами, а нам, неизбалованным детям, не надо было ничего
больше. Так прожили мы с неделю, читали, решали задачи и писали с утра до темна,
а вечером при свете лампы начинали опять. Мария Ильинична, не считаясь с
временем, сидела с нами, и я с величайшей благодарностью вспоминаю её до сих
пор.
Этот год она сама почему-то преподавала «Закон Божий»,
но делала уроки редко и проходили они как-то мельком и было всё освещено так,
что мы не знали, что к чему, мы и вовсе не интересовались этим предметом,
очевидно, так же, как сама она.
После спада воды я вернулся домой, и всё в доме, в
семье, мне казалось серым, тёмным, чужим. Как светло и уютно было там, в школе…
Весной к нам приехал на вороном жеребце новый
законоучитель – старый священник Федот из села Чмутова. Когда он вошёл в класс,
мы притихли, – он был строг, сказал, что «Закон Божий» самая полезная наука и
начал тихо, с расстановкой рассказывать нам Ветхий Завет. Обнаружив, что мы
ничего не смыслим в этом деле, он отобрал у учительницы почти все уроки,
приезжал часто, растягивал свои занятия почти на весь день. Перед уроками и
после он заставлял нас вставать и петь молитвы. Мы пели плохо, он журил нас и
заставлял спеть ещё раз то же самое. Если ему что-либо опять не нравилось –
заставлял петь третий и четвёртый раз.
Он спросил, что задали нам на дом.
– Ну, вот, – сказал он, выслушав нас. – Так я скажу
Лидии Ильиничне, чтобы вам больше ничего не задавала. Задавать буду я по Закону
Божию. А для других наук будет другое время. Успеете, торопиться вам некуда.
Главное – не в науках.
В мою душу закралось сомнение: я верил Лидии Ильиничне
больше всего на свете, а тут приходит батюшка – седой, тихий человек, и
говорит, что главное не в этом.
Рассказывая о том, как Христос накормил одним хлебом
несколько тысяч людей, он ходил по классу, размахивая широкими плисовыми
рукавами рясы.
– А эти хлебы в корзинах таскали? – спросил я.
– Да, в корзинах, – ответил он.
– Там тальник есть? – не унимался я.
– Да, – утвердительно сказал он.
Я сам умел плести из зелёных прутьев корзинки и мне
думалось, как много, наверно, было у Христа корзин.
В тот же день учительница повела нас на реку.
– Лидия Ильинична, – спросил я. – У Христа из таких
прутьев корзинки были? – указал ей на кусты тальника.
Она удивилась:
– А вам кто говорил про корзинки?
–
Батюшка.
Она ответила не сразу, и уклончиво.
– Так вы уж его спросите. Он, очевидно, знает.
На следующую осень пошёл учиться брат, а меня опять
порядили вертеть колесо. Теперь я уже умел хорошо читать, учебники я хотя и
сдал в школу, но зато у меня завелись другие книжки, старые тряпки, кости,
выигранные у ребят козны я выменивал у тряпичника на книжки: «Сын дьявола»,
«Змей Горыныч», и много других и читал у колеса, когда было можно читать.
Я и брат уже смирились с своей судьбой и друг другу
сочувствовали, не таились, не враждовали и нередко читали вместе. Каждый
месяц я приносил в семью пуд ржаной муки, дедушка плёл лапти, отец прял на
просаде у шабра пряжу и мы уходили на просад в одно время и в одно время
возвращались домой. Тяжёлая работа у колеса мне стала казаться ещё
утомительней, и мысли мои блуждали не здесь, у колеса, а там, в школе. Однажды,
когда стало почему-то невмочь, я, не отдавая себе отчёта в том, что делаю,
убежал с просада в школу. Я долго стоял у двери, не смея её отворить – там шёл
урок. Тогда я забежал с воли, ухватился за поличник и заглянул в окно. Меня
увидела Лидия Ильинична и поманила. Я вошёл в класс.
– Ты что? – спросила она. – Почему не ходишь к нам?
– Не пускают, – ответил я. – Работать надо…
На меня смотрели сверстники, сидевшие за партами, брат
стоял у доски с мелом в руках, удивлённо
раскрыв глаза.
–
Ты, Лёнька, откуда? – испуганно спросил он.
– Убежал с просаду, – сказал я.
– Ну, погоди, тебе за это влетит.
Только тут опомнился я и выскочил за дверь, не сказав
больше ничего. Я бежал в Мещеру быстро, задыхался, падал, сердце стучало, а я
всё бежал и бежал. На просаде уже вместо меня вертела колесо хозяйская девка, и
когда я просунулся в воротца, она бросила лебёдку, схватила меня за волосы.
Зная теперь свою вину, я не плакал и даже не кричал. Через некоторое время на
просад пришёл дедушка с кнутом в руках – злой, серый, припадая на левую
ногу. Он несколько раз хлестнул меня кнутом со всего плеча, как хлестал
норовистую лошадь и крякая при каждом ударе. Потом ушёл, ни слова не сказав
– за что. Кто-то сказал ему, очевидно, что я убежал с просада.
На другой день с утра у меня ломило всё тело, пылала
жаром голова, по телу пробегала дрожь… Но ни в этот день, ни на другой день я
не сказал никому о своей болезни… В садах пробивалась зелень, кричали в небе
птицы, сквозь плетень пробивались лучи солнца. Я пошёл обедать, но когда мать
поставила на стол кашу, я не ел.
– Ты что? – спросила она, пытливо взглянув в лицо. Я
молчал. – Лёнька, что ты? Рожа то что у тебя красная, да и глаза то? Ты не
захворал ли?
Я не вытерпел, заревел и еле вымолвил:
– Хвораю…
Я слёг в постель и в эту весну уже не ходил на просад.
Брат этой весной кончил школу с похвальным листом, и
когда запросился в городское училище, в семье опять началась между
взрослыми ссора.
– Неужели, Иванка, нам с голоду подыхать ради
ученья-то? – Кричал дедушка, обращаясь к моему отцу.
Но на счастье брата, за него вступились бабушка и
мать.
–
Пущай учатся… Вон Михеев Васька тоже собирается в Горбатов.
По осени всё же отправили его в Горбатов, а я опять
ходить в Борковскую школу. В 1913 году в Борках выстроили новое здание школы и
теперь уже училось около 20 человек. Три раза в неделю приезжал из Чмутова поп,
требовавший от нас особого прилежания к Новому Завету. Нас никто не спрашивал,
что мы читаем дома, читаем ли вообще. Как проводим время, как живём в семье.
В середине зимы заболела учительница, и с трудом делала
по одному уроку. На второй урок появлялся сторож Евсей – бородатый и строгий
старик. Он приходил в класс с метлой, и хмуро и сердито взглядывая на нас,
кричал:
– Тиша. Тиша, говорят вам. У меня не галдеть. – Ну,
тиша. Дихтовка, – объявлял он.
Мы торопливо вынимаем тетради, но кричит ещё строже:
– Ложи обратно тетрадки. Дихтовка, баю вам.
Мы прячем тетради в парты и, положив руки на парты,
затихаем. Глядим на Евсея, он глядит на нас, стоя с метлой недвижимо посреди
класса.
– Диктант, так писать надо, – негромко говорю я.
– Молчать… Ничего не надо… Сидите так, – гремит он,
грозя метлой. – Дихтовка.
В классе тишина, молчит и Евсей. Так проходит час,
другой. Потом Евсей так же строго объявляет:
– Ну, вот… теперьча домой ступайте…
Так
«учил» нас школьный сторож около месяца. Кроме попа никто ни разу не приехал в
школу, ни разу не заменили больную Лидию Ильиничну, – так подошла весна.
В мае, в день экзамена, к нам приехал инспектор –
высокий с рыжими усами, лысый человек в золотом пенсне. Он задавал каждому по
одному вопросу, и больше всего спрашивал поп, точно хотел показать этим
инспектору, как строг он к школьникам.
Так, в 1913 году я окончил сельскую школу, проучившись
в ней всего две зимы с перерывами.
Когда я сравниваю, в каких условиях учился я и мои
сверстники и в каких условиях учатся дети теперь, во мне всегда просыпается
зависть. Я завидую и в то же время радуюсь от всей души, что новое поколение
людей не испытывает теперь ни в семье, ни тем более в школе той рабской доли,
какую пришлось испытать нам.
Наши дети растут уже в иной своеобразной цветущей
стране, живут и учатся иначе, и каждый новый день приносит им столько радости и
светлого окрыляющего чувства.
Сталинская забота о детях, любовь к ним, материальные
блага, которыми так богата стала наша родина, сделали детство счастливым,
полным радости. Советская школа, строящая свою воспитательную и учебную работу
по новой социалистической методе, вырастит и воспитает людей высокого,
коммунистического сознания, людей-борцов за коммунизм.
Радостная, счастливая жизнь уже не мечта, а
реальность, время идёт быстро туда, где несчастье перестанет быть страшным, как
в былую пору, где люди будут все образованными, где о сиротстве забудут совсем,
где не будет не только нищеты и рабства, но не будет «собственности подлой и
страшной, не будет зависти, жадности, глупости, пошлости и всех тех уродств,
которые на протяжении веков искажали людей труда» /М.Горький/.
Теперь Вам, товарищи, расскажет Валя, как она учится в
школе и как проводит время дома.
Так заканчивает воспоминания о своём трудном
дореволюционном детстве Александр Иванович.
Сразу за этим текстом прикреплена публикация большого
очерка А. Патреева «Страницы живой истории». Материал вырезан из журнала (как
подписано сверху опять же синими чернилами) «Горьковская область» № 1 «за
1938-й год», страницы 75-90. Его содержание посвящено истории старого Нижнего Новгорода
(подана в довольно уничижительном ключе) и строительству автозавода имени В.М.
Молотова, жилого комплекса «Соцгород» для его рабочих.
Как образец литературно-публицистического стиля тех
лет, приведу выдержку, относящуюся к прошлому Канавина, Нижегородской ярмарки.
«Не только ночью, а даже днём грабили в ярмарке,
избивали на улицах, на площадях, на каналах и в садах.
И никого в особенности не тревожил дикий крик –
«караул, грабят!», раздававшийся и там и тут.
После пьяных, сумасшедших ночей в трактирах, в
номерах, в ресторанах, часто видела публика или раздетого донага и избитого до
потери сознания где-нибудь в канаве, на задворках, или убитого, или
отравленного купчика, выброшенного из тёмных вертепов, которые насчитывались
сотнями.
Целые шайки воров, преступников, бандитов, шарлатанов,
сонмища проституток, мазуриков, грабителей населяли ярмарку, занимая целые
улицы подряд – Азиатский переулок, Оренбургскую улицу и много других. Полчища
этих тёмных людей, при благосклонном попустительстве властей, орудовали всюду, –
в трактирах, в номерах, в юанях, в гостиницах, в открытых притонах…»
Таким выглядит одно из самых богатых торжищ в России
(да и не только) в тексте А.И. Патреева. Что же этому разгулу преступности и
продажности власти противопоставляет писатель?
«Классовые враги, прогульщики, воры, рвачи были
прогнаны. Партийный комитет стал центром энергии и энтузиазма рабочих масс.
Особая забота Центрального комитета партии и лично
товарища Сталина, Серго Орджоникидзе и краевого комитета партии с тов. Ждановым
во главе – обеспечили полную победу над трудностями, которые стояли на пути».
Интерес вызывают два следующих документа, относящиеся
уже непосредственно к общественно-писательской деятельности Патреева. Это
характеристики, написанные от руки (копии) в предвоенный год для СССР.
Копия
Характеристика
Патреева Александра Ивановича
Александр Иванович Патреев – член Союза Советских
писателей, талантливый прозаик, автор нескольких книг, вышедших в Москве и г. Горьком.
Тов. Патреев высококультурный и образованный работник, серьёзно и ответственно
относится к своему делу. В течение ряда лет т. Патреев добросовестно работал
редактором художественной литературы в областном издательстве. Тов. Патреев
участвует в текущей работе Союза; на творческой конференции писателей выступил
с содержательным докладом о коммунистической этике, регулярно читает лекции на
литературные и антирелигиозные темы и выступает со статьями и очерками в
газетах.
Горьковское отделение Союза Советских писателей
считает т. Патреева ценным и квалифицированным работником и рекомендует
привлечь его к педагогической работе.
За
секретаря Союза член Правления Кочин
Секретарь
парторганизации Рюриков
20/VIII – 40 г.
г.Горький
Характеристика
Члена Союза Советских писателей Патреева А.И.
Тов. Патреев Александр Иванович 1900 года рождения
состоит членом писательской организации с 1930 года. До настоящего времени тов.
Патреев написал ряд книг. В его произведениях отражены существенные стороны
современной общественной жизни – крушение буржуазной реакционной философии и
утверждение новой философии жизни; роман об инженерах – врагах и новых
советских инженерах. К своей писательской работе тов. Патреев относится
требовательно и добросовестно и является одним из серьёзных литераторов,
живущих в гор.Горьком.
1
3/VII – 40 г.
Отв.секретарь
Союза СП Муратов
г.Горький
Ещё одна копия выданной характеристики этого же года.
Текст довольно трудно читается, хотя и написан на пишущей машинке.
Использовалась, видимо, не совсем свежая копировальная бумага, и потому шрифт
отпечатался слабо. И всё-таки хоть и не без труда нам удалось его полностью
восстановить.
ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
члена союза советских писателей ПАТРЕЕВА Александра
Ивановича.
Тов.Патреев, проживающий в г.Горьком, работает
преподавателем литературы в военно-морском училище.
Тов. Патреев выступил, как писатель, с книгой
рассказов «Крепнут звенья», 1930 г. в г.Горьком.
В 1931 г. издал в г.Горьком сборник очерков «Ударный
рейс».
В 1938 г. издал в г.Москве / «Советский писатель»/
роман «Глухая рамень». /Два издания романа вышло в г.Горьком/.
В 1937 году выпустил сборник рассказов в г.Горьком:
«Страна родная».
В 1940 г. написал комедию «Строптивое сердце».
Находится в Горьковском издательстве, скоро выйдет из
печати большой роман из жизни советской интеллигенции «Инженеры» /сокращённо
был напечатан в альманахе горьковских писателей, 1939 г./
Тов.Патреев на протяжении ряда лет печатал свои очерки
и рассказы в областных газетах и журналах, в журналах «Колхозник», «Наша
страна».
Тов. Патреев имеет высшее литературное образование.
Состоит членом союза советских писателей с 1938 года.
Члены
бюро Союза сов. Писателей Муратов
Горьковской
области
Кочин
Рюриков
1/Х-40 г.
Не вполне понятно, почему в 1940 году оказалось
необходимым выдать писателю в июле, августе, октябре сразу три различных
характеристики. Я рассчитывал, что какую-то ясность в этом вопросе внесёт
заполненная в более поздний срок (20 января 1955) Патреевым «Личная карточка
члена Союза Советских Писателей СССР», но в ней писателем указано, что в
1936-1943 годах он проживал в городе Горьком и трудился как
писатель-профессионал. Никаких других особых сведений не указано.Правда в «Личном
листке по учёту кадров»,заполненном в 1959 году Александр Иванович указывает,
что в 1939, 1940, 1941 гг. исполнял обязанности председателя ревизионной
комиссии Горьковского отделения Союза писателей. Возможно – характеристики
требовались для утверждения в должности (хоть она и общественная) в партийных
органах. Впрочем, это только догадки.
Но пойдём дальше. Прочитаем следующий документ. Это:
В Ы П И С К А
Из протокола №2
общего собрания членов и кандидатов Союза советских писателей Горьковской
области от 24 марта 1942 года.
СЛУШАЛИ: 1. О выдвижении кандидата из
членов Горьковского Союза писателей на соискание горьковской премии,
учреждённой Облисполкомом за лучшее художественное произведение в 1941-ом году.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Областному
Исполнительному комитету в качестве кандидата на соискание областной
горьковской премии за лучшее художественное произведение, вышедшее в 1941 году
тов. Патреева Александра Ивановича, автора романа «Инженеры».
Председатель КОЧИН.
Секретарь ХАРЛОВА.
ВЫПИСКА
ВЕРНА: Секретарь ССП
Горьковской области (Подпись)
(ХАРЛОВА)
Представлена
президиуму Облисполкома
25
мая 1942 года.
Роман «Инженеры» получил высокую оценку среди коллег.
Я видел более позднее его советское издание – толстенный кирпич листов в
пятьдесят авторских.
Но вот мы приближаемся к трагическим событиям в судьбе
прозаика. Никаких документов, по понятным причинам, отражающих в личном деле этот
период в его жизни, нет, но Александр Иванович после того, как прошла его
реабилитация, везде, во всех документах более позднего периода, указывает о пережитом
им несправедливом наказании.
Вот рукописная биография, написанная В.И. Патреевым в
1957 году мелким разборчивым почерком. В ней неизбежны повторы из биографии
1938 года, но я всё-таки решил этот документ дать полностью, без сокращений.
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
Родился в 1900 г. 23 ноября по ст. стилю, в бедной
крестьянской семье, деревня Мещера (моя родина) входила в состав бывшего
Горбатовского уезда Нижегородской губернии (теперь Горьковская область), стояла
вдали от железной дороги, вдали от областного города, зато рядом с ней
находилась излучина реки Оки. Жители нашей Мещеры (а также и соседних деревень)
были малоземельны, жили крайне бедно, – вили верёвки для Горбатовских канатных
фабрик, находясь в полной экономической зависимости от купцов – Стешова,
Спирина, Склянина, и многие, как мой дед и отец уходили в Астрахань на рыбные
промыслы, чтобы хоть этим скудным заработком прокормить семью.
В нашей семье было у отца 9 человек
детей, из которых умерло трое да ещё были нетрудоспособные – дедушка мой и
бабушка. Земля не кормила, дедушка вплоть до смерти своей плёл лапти. Было
великим трудом в то старое время прокормить хоть недостаточно такую семью, и
отец много положил труда, чтобы сохранить и вырастить шестерых детей и ещё,
кроме них, прокормить стариков – своих родителей. До 1-ой Мировой войны он
несколько лет подряд уходил на отхожие заработки – на рыбные промыслы в
Астрахань и Гурьев, и в 1912 году возвратился оттуда инвалидом – (ветром оторвало
льдину и унесло их в море, где они без хлеба и без воды пробыли 3 дня, а от
простуды у него отнялись ноги). А этим же годом (среди лета) пожаром уничтожило
20 изб, а в том числе сгорела и наша изба. Без крова, хлеба и денег оказалась
наша семья.
Хронический голод и болезни заставили отца искать
какую-то работу, чтобы семья его в 10 человек не вымерла с голоду. Будучи
человеком религиозным, он к тому же полгода пролежал в Горбатовской больнице, и
за это время он пристрастился к чтению церковных книг.
В результате всех этих причин отец, в поисках хоть
какого-либо заработка поступил в начале 1914 года в дьячки, а когда в 1915 году
наша армия заняла Галицию, отца моего послали попом в Галицию, но он, очевидно,
не имел возможности оставить свою семью и уехать один, – и он остался дома.
Тогда его в конце 1915 года послали попом в лесной семёновский уезд, где было
немало вакантных мест, так попы с образованием уходили в большие сёла побогаче
и поближе к уездному городу.
Этот скудный его заработок всё же дал ему возможность
учить детей в школах. При нём остались младшие дети, а мы с братом – старшие из
детей – были взяты на воспитание в город Нижний, где жил наш дедушка (по
матери) Ефремов, работавший стрелочником на станции Н-Новгород. У него я жил и
учился в ремесленной школе в Канавине – с 1915 по 1918 г. Было трудно и голодно
жить, но старики любили меня, считали родным сыном и рады были, что они учат
меня ремеслу и наукам. (С этого, памятного, 1915 года я и жил отдельно от отца
всё последующее время, вплоть до последних его дней: по слухам, он умер в 1932.)
Никогда не забудется: как мы с дедом в 1916 – 18 году
ходили в тупиках по пустым товарным вагонам, собирая в них брошенные солдатами
сухари, чёрные, грязные, иногда седые от пыли, каменного угля и плесени. И были
несказанно рады удаче, если набирали 2-3 килограмма сухарей. Их сперва мыли, а
потом высушивали.
В 1918 году умерла бабушка, и я уехал в Лукоянов, к
родному дяде (брату матери) Никитину, который служил там в продотряде. Он помог
мне (в 1918-21 годах) закончить Лукояновскую среднюю школу (2-ая ступень).
А по окончании средней школы я был призван в Красную
Армию. Служил в г.Горьком, в 4-м Авиапарке, рядовым, и был в 1922 г. в мае
месяце демобилизован. После демобилизации я в 1923 году поступил на работу –
учителем в сельской школе (село Байково Починковского района) и заведующим, в
должности этой я проработал вплоть до 1927 года. Потом сдал экзамен в
Пед.институт.
Учась в Горьковском пед.институте, я сдавал зачёты
сразу по 2-м отделениям – Литературному и естественно-биологическому.
Пед.институт я закончил в 1930 г., и все эти годы
студенческие я, не получая гос.стипендии, вынужден был работать по вечерам – на
курсах по подготовке рабочих во втузы и вузы. И в это же время я начал упорно
заниматься литературно-творческой работой.
Вообще педагогической деятельностью я занимался 10
лет: с 1923 г. по 1927 г. – в сельской школе, и с 1927 г. по 1933 год – на
вечерних рабочих курсах в г.Горьком.
С 1933 по 1936 г. я работал редактором художественной
и детской литературы в Горьковском областном издательстве, потом стал
писателем-профессионалом.
В 1935 году я был принят в члены Союза Советских
писателей.
В период с 1930 г. по 1943 г. мною написаны: роман
«Глухая рамень», роман «Инженеры», исторический роман «Богатыри», 5 книжек
рассказов и очерков, комедия «Строптивое сердце», поставленная на сцене
Гор.драм.театром в 1940-41 годах, и 2 книги для чтения (в соавторстве с другими
товарищами) для сельских и городских школ.
В 1943 г. я был незаконно репрессирован; с 1943 по
1951 я находился в лагерях МВД, потом находился в ссылке с 1951 по 1955 год.
Верховным Судом СССР я был 29 ноября 1956 года
полностью реабилитирован и восстановлен в правах члена Союза С.П. с 1935 года.
В настоящее время я работаю над романом «Так начиналась
жизнь» (о людях 1-ой пятилетки) и над историч. романом «Богатыри», чтобы издать
его в новой переработанной редакции.
20 января 1957 г. А.Патреев.
Добавлю несколько дополнительных фактов из «Личной
карточки» писателя для уточнения. Его номер билета члена ССП 2314; с декабря
1942 года он стал кандидатом в члены ВКП(б) № карточки 1194891, с августа 1957
– член КПСС, № партийного билета 07630957. Реабилитирован Верховным Судом СССР
29 ноября 1956 г.
В автобиографии от 12 августа 1959 года появляется
такое уточнение о времени, проведённом в лагерях и ссылке: «работая там на
государственной службе (по окончании годичных зоотехнических курсов работал 7
лет зоотехником в совхозах МВД, а когда в 1952 г. живя в ссылке, работал
зоотехником в колхозах, потом в МТС). Вернулся в г. Горький в 1955 году – после
12-летнего пребывания в Карагандинской и Кокчетавской областях… В настоящее
время заканчиваю повесть «Алёнушка» (на современном материале) и роман
«Богатырь» (о борьбе Руси против немецкого и шведского нашествия в XII веке.
Главный герой романа – Александр Невский)… Являюсь ответственным редактором
«Волжского альманаха»…»
У меня создаётся такое впечатление, что перед теми,
кто пострадал от незаконных репрессий, в дальнейшем государственные структуры
ощущали определённую вину. Этим можно объяснить, что для них не жалели наград. Конечно,
давались они не на пустом месте: за книги, общественную деятельность, участие в
выборных руководящих органах…
В деле Александра Ивановича есть письмо с его
биографическими данными, подписанное ответственным секретарём Горьковского
отделения СП РСФСР Н. Бирюковым, секретарём парторганизации Н. Бенфельдом (псевдоним
этого писателя – Анатолий Вершинин) и профоргом Н. Харловой. Я его процитирую.
Бюро Горьковского отделения Союза писателей и
парторганизация отделения просят поддержать ходатайство о переводе на
персональную пенсию Республиканского значения в размере 120 рублей в месяц
писателя Александра Ивановича Патреева, рождения 1900 года, члена КПСС с 1957
года.
В настоящее время А.И. Патреев, с момента выхода на
пенсию (1960), получает общую пенсию по старости в сумме 120 рублей в месяц.
Бюро Горьковского отделения СП и парторганизация
отделения считают литературные заслуги А.И. Патреева выходящими за рамки
области, имеющими более широкое, республиканское значение. Это обстоятельство
подтверждается неоднократным выходом массовыми тиражами двух крупных романов
писателя («Глухая Рамень», «Так начиналась жизнь») в Горьковском издательстве и
в Москве.
Бюро Горьковского отделения СП и парторганизация
отделения отчётливо представляют себе, что перевод А.И. Патреева на
персональную пенсию республиканского значения в смысле размера пенсии ничего
ему не даст: 120 руб. он уже получает по общей пенсии. Оправданность назначения
ему персональной пенсии Республиканского значения мы видим в том, что она
подчеркнёт общественное признание писательского и общественного труда А.И.
Патреева, что кажется нам особенно необходимым потому, что вся работа А.И.
Патреева в 1943 году на 13 лет, до 1956 г. была прервана незаконным обвинением,
заключением в лагеря и последующей ссылкой. В лагеря и ссылку он попал
человеком в расцвете сил, из них он вернулся стариком. В этих условиях
назначение персональной Республиканской пенсии ощущается нами как форма, подчёркивающая
общественное признание ценности сделанного А.И. Патреевым, и, вместе,
необходимое государственное исправление допущенной в своё время по отношению к
нему несправедливости.
Необходимые документы (личное заявление,
автобиографию, листок по учёту кадров, справку о состоянии семьи, справки о
получаемых пенсиях) прилагаем.
Письмо, в котором не указано адресата и время его
составления, вернее всего было направлено в Горьковский обком Коммунистической
партии Советского Союза в самом начале шестидесятых годов.
Я исхожу из того, что в нём не указано: с 1964 по 1966
года Патреев избирался депутатом Горьковского горсовета; в 1967 – депутатом
Горьковского областного Совета депутатов трудящихся; в 1966 году – избран
секретарём партийной организации.
В личном деле помещена большая портретная фотография
писателя с подписью: «А.И. Патреев.
Ноябрь 1960 г.». Большой открытый лоб, обозначающий начала облысения. На
переносице очки, взгляд спокойный, вдумчивый опытного интеллигентного человека.
Это же подчёркивает одежда: одет в костюм с галстуком. Назвать этого
шестидесятилетнего человека «стариком» можно с определённой натяжкой.
Следом за фотографией копия «Указа Президиума
Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР деятелей
советской культуры». По Горьковской области прозаик Патреев Александр Иванович «За
заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом
воспитании трудящихся» награждён орденом «Знак Почёта». (Подписано
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорным и секретарём
Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. Москва, Кремль. 28 октября 1967
г.)
К своему семидесятилетнему юбилею А.И. Патреев начал
готовиться заранее.
В бюро Горьковской писательской организации он написал
заявление.
«Дорогие товарищи.
23 ноября 1970 года мне ИСПОЛНЯЕТСЯ СЕМЬДЕСЯТ лет и 40
лет моей литературной и общественной деятельности.
В виду этой важной для меня даты приходится думать о
подведении итогов писательской жизни и труда. Мне совершенно необходимо к этому
времени издать трёхтомник моих произведений в одном из центральных издательств.
1-й том – «ГЛУХАЯ РАМЕНЬ»,
2-й том – «КАК НАЧИНАЛАСЬ ЖИЗНЬ»,
3-й том – «КРУТЫЕ ГОДЫ».
Как Вам известно, два последних романа были объединены
одним названием «ИНЖЕНЕРЫ». Этот роман был издан в нашем Волго-Вятском изд-ве
тиражом лишь 15 тысяч экземпляров /вместо 100 тысяч экз., как полагалось по
заключенному договору/, и разошелся тогда же, в 1965 году, буквально за три
недели.
Прошу Вас поддержать мою настоятельную просьбу и с
соответствующим ходатайством обратиться в Обком партии, в Правление Союза
писателей РСФСР, и, если понадобится, в Комитет по печати Российской Федерации.
Времени уже осталось мало, поэтому прошу Вас решить вопрос без отлагательства.
9 ноября 1968 года.
(Подпись)
На заявлении резолюция синими чернилами:
«Написать письмо
в обком КПСС
в секретариат
СП РСФСР
Л.М. Леонову»
Такое издание не состоялось. Во всяком случае мне об
этом ничего не известно, да и в документах дела о таком факте не упоминается.
В 1970 году секретарь партийного бюро А. Ерёмин и
ответственный секретарь Горьковской писательской организации СП РСФСР В.
Автономов просят «высшие партийные и государственные органы поддержать
ходатайство коммунистов-писателей о представлении т. Патреева Александра Ивановича
к правительственной награде» (из выписки протокола заседания партийного Бюро)
«в связи с 70-летием со дня рождения и 40-летием литературной деятельности» (из
Характеристики от 8/VI-70 г. г. Горький).
В прилагаемой справке о произведениях писателя о предстоящем
выходе собрания сочинений Александра Ивановича также ничего не сказано, хотя
перечисляются все книжные издания его произведений в период с 1933 по 1966
года. (Всего их было семь. Роман «Инженеры» выходил в двух томах в период 1965-1966
гг.) Указана и постановка пьесы «Строптивое сердце» в местном драмтеатре, а
также то, что «в разное время напечатано около сотни очерков, статей и
рассказов – в местных областных и центральных газетах, в альманахах, в
сборниках и журналах».
Ходатайство писательской организации было
удовлетворено. 16 декабря 1970 года опубликован указ Президиума Верховного
Совета СССР за подписями опять же Председателя Президиума Верховного Совета
СССР Н. Подгорного и секретаря Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
«О награждении писателя Патреева А.И. орденом Трудового Красного Знамени».
Вырезка из газеты подшита в личном деле.
Юбилей Александра Ивановича в городе был отмечен по
достоинству. В центральных областных газетах появились большие статьи о нём его
коллег: Алексея Елисеева «Верен правде жизни» («Горьковская правда») и Леонида
Безрукого «Проза и поэзия трудовых будней» («Горьковский рабочий») с портретами
писателя.
В листовке юбилейной комиссии, выпущенном к 70-летию
писателя тиражом 300 экземпляров, отмечается, что он «ряд лет избирался
председателем ревизионной комиссии, возглавлял партийную организацию писателей…
не однажды избирался депутатом городского, второй созыв избирается депутатом
Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся. Он член жюри Всесоюзного конкурса ВЦСПС и Правления Союза писателей
СССР». В наградах кроме ордена указана медаль «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Александр Иванович Патреев ушёл из жизни 20 февраля
1974 года в возрасте 73 лет. В «Свидетельстве о смерти» указана её причина:
«механическая желтуха, перитонит, пневмония». Место смерти: город Горький.
Некрологи по случаю кончины писателя опубликовали
«Горьковская правда», «Горьковский рабочий», «Ленинская смена». Телеграммы
соболезнования поступили от коллектива «Леспроекта» («Лесоустроители Поволжья и
Урала выражают глубокое соболезнование… по случаю кончины автора бессмертной
книги «Глухая Рамень» Александра Ивановича Патреева…»); от Союза композиторов (Касьянов,
Нестеров, Елисеев, Комраков); от Секретаря Союза писателей РСФСР Котомкина.
Вынос тела из Дома архитектора (тогда набережная
Жданова, 2) состоялся 22 февраля в 14 часов. Место захоронения в объявлении не
указано.



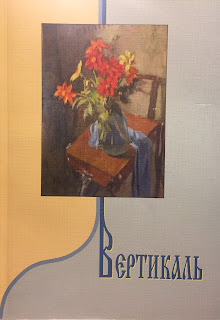
Комментарии
Отправить комментарий