Виктория ЗАХАРОВА. ПРОВИНЦИЯ И СТОЛИЦА: МИФОПОЭТИКА УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЗЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. «Вертикаль. ХХI век» № 75, 2022 г.
Виктория Трофимовна Захарова, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина" (Мининский университет). Автор монографий: «Импрессионистические тенденции в русской прозе начала ХХ века». — М., 1993; «Духовный реализм И.С. Шмелёва: лейтмотив в структуре романа «Пути небесные». (Совместно с О.Е. Галаниной) — Н. Новгород, 2004; «М.Горький — художник Серебряного века». — Н.Новгород, 2008; «Проза Ив. Бунина: аспекты поэтики». — Нижний Новгород 2013 и др. Живёт в г. Дзержинске Нижегородской области.
Творчество М.А. Осоргина (1878-1942)
сегодня уже нельзя считать обойденным вниманием литературоведения. Однако до
исчерпанности в его изучении еще далеко. Более всего исследователей привлекали
главные произведения писателя, составившие ему быструю известность и признанность
среди кругов русской эмиграции, а затем
и России: это роман «Сивцев Вражек», автобиографическое повествование
«Времена», дилогия «Свидетель истории» и «Книга о концах». Однако богатое наследие
писателя включает в себя значительное количество произведений, принадлежащих к
разным прозаическим жанрам, нуждающихся в исследовательском внимании.
Автобиографическая книга
М.А. Осоргина – «Повесть о сестре» (1930) – отличается мифопоэтическим
началом в художественном восприятии автором образа провинции.
Это произведение было из тех, что написаны автором, как замечал Гл. Струве, «на грани беллетристики» [1, c.185]. Полагаем, именно поэтому оно и не получило столько внимания, сколько указанные выше, ибо новаторский характер прозы русского зарубежья, давшего великолепные образцы синтезированного жанрового мышления, близкого к неореалистическому типу художественного сознания, тогда глубоко осмыслены не были. (Как, впрочем, дело обстоит и сегодня относительно довольно значительного круга произведений известных авторов). Однако, по утверждению Гл. Струве, «Повесть о сестре» «некоторые считают лучшей вещью Осоргина» [1, c. 185].
Современный исследователь
пишет: «Повесть о сестре» – <…> не просто
бытовая, приземленная проза <…> Она …доказывает умение автора увидеть обыденность сквозь магический
кристалл искусства, возвести частные, подчас интимные обстоятельства в разряд
истинно поэтического обобщения» [2, c. 20].
Перед нами – художественное
произведение, в котором автор ведет повествование от имени автобиографического
героя, человека средних лет, Кости, после смерти своей любимой старшей сестры вспоминающего о
ней и о своей жизни с самого детства. Катя, так зовут героиню воспоминаний,
всегда была для него человеком, вызывающим восхищение, даже поклонение. В
раннем детстве он ощущал материнское начало, глубоко присущее ей.
Детство Кости и Кати прошло
в Приуралье. Кама – родная река Осоргина и его героя. Следует сразу же сказать,
что Осоргину органически было присуще мифопоэтическое восприятие природы.
Характерно его признание из автобиографического романа «Времена»: «Я был и
остался сыном матери-реки и отца-леса…» [3, c. 489]. Как было замечено
М.С. Анисимовой, «хронотоп дома и хронотоп природы не существуют в сознании
героя автономно, а объединяются в единый макромир, с помощью чего возникает
гармоническое единство земного быта и вселенского бытия» [4, c. 14].
И в повести природный мир в различных образах выступает у Осоргина как некая могучая жизненная субстанция,
неизбежно соотносимая с людским бытием. Именно через него выражаются в текстах
писателя его концептуальные идеи, дается восприятие жизни в ее самых
разнообразных проявлениях. И, конечно же, это, в первую очередь, связано с
родными местами.
Осоргин настолько глубоко
ощущал родство людей с природой, что зачастую мы встречаем описание образа
героя через созвучные ему природные образы. Так, водной из первых главок так
передается впечатление от быстрого возрастания Катюши-девочки: «Если, например,
вы не были в своем саду две недели, а потом спустились туда с резного крылечка
– и смотрите: газон поднялся, выровнялся и зацвел маком, на клумбах не узнать
прежних настурций, а душистый горошек тянется и шевелит тройными цепкими
усиками. Совсем иная картина, все выросло и зацвело» [5, c. 297].
И чуть далее: «А Катюша – это уже не травка и не кустарник, Она маленькое
деревцо, березка с лесной опушки» [5, c. 297].
Такие сопоставления в
прозе Осоргина не самоценны. Природная
образность здесь получает мифогенерирующие
функции: человек, живущий по законам природы, по законам красоты,
становится органической частью этого прекрасного, гармонически устроенного
мира, – так прочитывается здесь любимая мысль писателя.
Подобная черта художественного
миросозерцания Осоргина обусловила и появление в его текстах описаний психологического состояния человека
через природную образность. К примеру, ночной, душевный и очень серьезный
разговор Кати с матерью передан так: «Мамин шепот был, как всегда, ровен и спокоен,
а Катя шептала взволнованно, так, что иногда доносились до меня отдельные
слова. Она говорила что-то о доме и о детях. Были ее жалобы водопадом, а мамины
слова – тихим ручейком. И побеждал, конечно, ручеек» [5, c. 378].
Такая соотнесенность делала частное, «домашнее» неотъемлемым от всеобщего,
субстанционального, – что, с одной стороны, эти «частности» делало мене
значительными, а, с другой, одухотворяло их
приобщенностью к огромному космосу бытия: и малое, и огромное
равновелики перед лицом вечности.
В «Повести о сестре»
сосуществуют два топоса – провинция, родной Урал, и столица – Москва, где учился
Костя, будучи студентом университета, и где жила с мужем и детьми Катя. Есть еще
и третий, – он уже за гранью событийной канвы повествования, он – из «настоящего»,
в котором живет и пишет свои воспоминания автор: это Европа.
По шаблонным меркам столица
и провинция должны быть в оппозиции, но нет: они именно сопоставлены как две неотъемлемые
части одного единого российского пространства. Студенты, герои повести, не
раз изображены любующимися Москвой: «…А видишь, Костя, вон там, правее моста,
загорелся зеленый огонек?.. И в воде отражается. Хороша наша Москва, Бог с ней! Ты любишь ее?
– Люблю, как же ее не
любить?
– Да, как же ее не любить,
ежели она – Москва!» [5, c. 364]. (Здесь и далее в
цитатах курсив мой. – В.З.).
И это сопоставление дано в
повести лейтмотивно: «Городская весна приходит быстро, сразу распускается, но
держится подолгу, потому что она и в городе,
как в деревне, все-таки медлительна, все-таки она русская весна, а не какая-нибудь» [5, c. 369].
Что же касается топоса
Европы, то он как раз противопоставлен российскому
пространству, – как столичному, так и провинциальному. Особенно – природному. В
тексте повести замечательны строки признания в любви к своей родной земле, ее
просторам, которые воспринимаются своими, родными, отвечающими на любовь. О
поездке домой на каникулы говорится: «Прекрасен был трехдневный путь туда по
текучему простору наших рек! И там ждали
меня хвойные леса, которых я никогда
не мог забыть даже среди звенигородской ласки и красоты и которым никогда
не найду даже близкого подобия здесь, в Европе. Удастся ли мне когда-нибудь… не
говорю – увидать их вновь, нет, – но лишь воскресить их в памяти своей и
рассказать о них другим то и так, что и как хотелось бы? Сказать о них не так, как сейчас, не мимоходом и не сдерживая
слова и чувства, – а словоохотливо, с радостью, захлебываясь, дополняя
междометиями там, где слов красочных не хватит, широко разводя руками, чтобы
объяснить профанам средней и южной России и наши пространства, и наши просторы,
и речную гладь, и аромат заливных лугов, и сладость смоляного дыхания!» [5, c. 343].
Здесь стоит отметить
упоминание о Звенигороде, подмосковных
лесах, которые тоже полюбил герой: это для него как бы стремление приблизить к столице свой любимый
провинциальный природный мир.
И еще один показательный
пример, – тоже из воспоминаний о поездке домой на каникулы уже вместе с
сестрой: «…перо, даже в руках человека, всю жизнь посвятившего искусству слова,
бессильно изобразить неизмеримую и поистине земную, близкую нам, почти домашнюю
красоту тех мест, по которым лежал нам с сестрой путь из Москвы на нашу
приуральскую родину. <…> Милостью судьбы, не скрывшей от меня ни одного
уголка Европы, – ни лазурных берегов ее
Юга, ни ее скандинавских красот, – я мог проверить свои давние впечатления, мог
сравнить, и могу теперь сказать со спокойной уверенностью:
– Все, что есть прекрасного
здесь, – есть и у нас; но и среднего нашего не найти нигде в Европе.
И я не буду лицемерить: это
сознание вновь до краев наполняет русской гордостью мою душу, опустошенную
рядом иных, слишком невыгодных для нас сравнений. Затерянный в толпе чужих,
самоуверенных, презрительных людей, – я снова чувствую себя сыном и гражданином
великой, богатейшей и прекраснейшей из стран. И, страдая ее сегодняшними
бедами, я радостно улыбаюсь ее будущему.
Я в него крепко верю. Это
делает меня счастливым» [5, c. 373].
Приведенный отрывок
свидетельствует о синтезированном характере жанровой природы осоргинского
произведения: в нем заметны и лирико-импрессионистические фрагменты, органично
вписывающиеся в повествование, и эссеистские заметки дневникового плана,
придающие ему, с одной стороны, интимность индивидуально-авторского восприятия,
а с другой – обобщенность, выход на уровень размышлений онтологического характера. И именно провинциальная природная
образность становится сферой авторского присутствия в тексте, выражает не
просто впечатления, чувства, размышления частного человека о частной жизни, но как
раз и представляет этого человека способным благодаря любви к родному, частному, домашнему, стать поистине
сыном своей огромной страны, суметь
оценить ее величие в целом.
Верно замечено И.Б. Боравской:
«Собственно социальные аспекты действительности мало занимали писателя, он был
увлечен вечными проблемами: тайн духовного бытия, связей человека с земной
природой, его тяготения к загадкам Вселенной; краткости человеческой жизни и
памяти как преодоления смерти» [6, c. 27].
И действительно, в том, как подано
восприятие смерти у Осоргина, с ним мог, пожалуй, сравниться
только Б.К. Зайцев как автор повестей «Тихие зори», «Спокойствие», в свое время
поразивших современников приятием бытия
во всех его составляющих. Типологическая близость такому представлению у
Осоргина обусловлена, подобно его предшественнику, любовью к прекрасному в
«живой жизни».
Сообщение о смерти
сестры Костя получил весной. В тексте
читаем: «А весна в наших краях долгая, ласковая. Река вскрывается, потом теплые
дожди, потом цветы, белые, лиловые, всякие, и много их. Цветет сначала черемуха, после сирень, и еще после липа.
Потихоньку наступает лето, тоже прекрасное – не сразу жара. В нас и осень
хорошая, и даже зима – сухая, чистая, морозная. В наших краях и смерть не
кажется злом и обидой, а кажется сном, неизбежным, когда тело устало жить. Хоть
и непонятно: зачем нужно судьбе, чтобы иные люди проходили мимо счастья – прямо
к вечному покою [5, c. 391]. Элегическое восприятие полученного известия
привело героя к мудрым размышлениям о смысле
жизни Кати, всякой другой жизни.
И самый замечательный
природный образ, соотносящий восприятие повествователем сестры с деревом и
птицей, возникает в финале повести. Это образ лиственницы, увиденный им в лесу
вскоре после полученного печального известия: «Посреди поляны росла лиственница,
раскидистая, ясная, светлая; <…> Я остановился в восхищении и
прислушался: к такой картине нужна особая музыка. И вот из леса донеслась до
меня эта музыка – голос тоскующей горлинки. Иные птицы щебечут, другие насвистывают,
третьи просто поют, – и только про горлинку народ говорит ласково и
трогательно: она тоскует» [5, c. 393]. И не случайно,
повествователю почудилось в «светлой
красоте одинокой лиственницы», в «жалобе горлинки» «близкое веяние» души его
сестры Кати [5, c. 393]. Пронзительно поэтична эта «солнечная встреча»,
венчающая «Повесть о сестре».
Мифогенерирующий характер природной образности, обладающей сильным символизирующим потенциалом, заключается
и в подобных сопоставлениях: мир природной гармонии включает в себя и гармонию
человеческой личности, которая заключалась, по убеждению повествователя, в образе
Кати.
Полагаем, трудно переоценить
значение художественного мировидения автора, в скромном
произведении-воспоминании сумевшего подняться до постижения общезначимых
непреходящих ценностей бытия, обнаруживаемых через восприятие русской провинции
с ее укорененностью в прекрасном природном бытии, гармонизирующим бытие человеческое.
Как известно, в начале ХХ
века такие взгляды не были популярны. Но Н.А. Бердяев, к примеру, писал: «Судьба
человека зависит от судьбы природы, судьбы космоса, и он не может себя отделить
от него... Космос разделяет судьбу человека, и человек разделяет судьбу
космоса» [7, c. 172]. Бердяев считал также, что «социальный гуманизм
имел слишком ограниченный и слишком поверхностный базис», оттого что уже в XIX веке
«ориентация жизни сделалась социальной по преимуществу... Человеческая
общественность была выделена из жизни космической, из мирового целого... [8, c. 144].Сходные взгляды высказывались В.И. Вернадским: «В
гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практически
забывает, что он сам и все человечество, от которого он не может быть отделен,
неразрывно связаны с биосферой с определенной частью планеты, на которой они
живут... В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и передвигающемся
по нашей планете индивидууме, который свободно строит свою историю. До сих пор
историки, вообще ученые гуманитарных наук сознательно не считаются с законами
природы биосферы – той земной оболочки, где может
только существовать жизнь. Стихийно человек от нее неотделим. И эта
неразрывность только теперь начинает перед нами точновыясняться» [9, c. 304-305].
Полагаем, проза М.А. Осоргина,
как в заглавных его произведениях, так и «периферийных», является примером
талантливого художественного воплощения подобных взглядов русских философов, не
только не потерявших своего значения, но и спустя столетие все еще звучащих
очень злободневно. Поэтому образ провинции в его текстах, концептуально
спроецированный на неомифологическое
осмысление проблемы «человек и природа»,
несет в себе не только и не столько ностальгические интонации дорогих
воспоминаний, а выходит на уровень глобальных общечеловеческих проблем.
Художественное наследие
русской литературной эмиграции первой волны убеждает: ощущая свое
предназначение в вынужденном изгнании как посланническое, писатели стремились
прежде всего запечатлеть Россию ушедшую.
Во многих художественных произведениях, ставших шедеврами русской прозы ХХ
столетия, в талантливой публицистике ощутимо присутствие мифологемы «утраченного рая», весьма многогранно
проявляющейся: это характерное свойство прозы Ив. Бунина, Ив. Шмелева, Б. Зайцева,
Л. Зурова, В. Набокова и др. Вместе с тем, заметно и то, насколько проникновенным
было стремление писателей показать драматизм
произошедшего в стране тектонического разлома. Зачастую и эта тема решалась
авторами в аспекте неомифологического художественного сознания, столь
свойственного прозе ХХ века.
Рассмотрим далее решение темы крушения мира старой России на
уровне мифопоэтики урбанистического художественного пространства, – а именно, образов
двух столиц, – в прозе Б.К. Зайцева, И.А. Бунина, Л.Ф. Зурова, а также
эмигрантской публицистики.
В современном
литературоведении заметен актуализировавшийся в последнее десятилетие интерес к
проблеме урбанизма в русской и мировой литературе. Это выразилось, в том числе,
и в выпусках материалов научных конференций, посвященных исследованию различных
пространственных «текстов» русской литературы, прочитываемых в аспекте
важнейших национальных топосов [1]. Методологической основой таких материалов
остается известный фундаментальный труд В.Н. Топорова «Петербург и “Петербургский
текст русской литературы” (Введение в тему)» [2]. Вместе с тем полагаем весьма
важным возвращение в научный обиход трудов Н.П. Анциферова и развитие его идей [3].
Итак, обратимся к мифологеме столицы в творчестве
избранных для анализа произведениях. Под мифологемой
мы понимаем индивидуально-авторскую
модель сущностных представлений автора, конкретный и одновременно вневременной
образ, имеющий онтологическое значение, принимающий черты легендарности
Б.К. Зайцев (1881-1972), как известно, был певцом Москвы. Ее
поэтический облик импрессионистически-светоносно воссоздается на страницах известной
повести «Голубая звезда» (1918), посвященной жизни столичной интеллигенции в
предреволюционные мирные годы. В эмиграционном творчестве писателя образ Москвы
наиболее выразительно запечатлен в рассказе «Улица св. Николая» (1921) и романе
«Золотой узор» (1926).
Улицей св. Николая
называет Б.К. Зайцев свой родной Арбат. Рассказ этот – очень глубокое,
смыслоемкое произведение, перерастающее жанровые рамки: по сути, это лирически
окрашенное историко-философское эссе. Охватывая здесь события целого
двадцатилетия нового века, Б. Зайцев, по сути, выстраивает здесь свою траекторию надежды на будущее России
именно в связи с православной верой. Она укреплена,
как прочитывается в тексте, на мощном фундаменте: три храма во имя особенно
почитаемого русским народом святого – Николая Чудотворца – возносят колокольный
звон на Арбате: Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный. Как точно
замечено, это рассказ, «в котором показана вечность, воплощенная в трех церквях
Николая Чудотворца – при всех властях, режимах, переворотах» [4, с. 208].
Образом, скрепляющим
лирическое движение сюжета в рассказе, оказывается московский извозчик – «седой
и старенький», «обликом похожим на св. Николая» [5, c. 161], – так через
портретные черты усиливается мотив
глубинной связи русского народа со своим любимым святым. Извозчик этот,
несмотря ни на какую погоду, ни на какие исторические перипетии, – вплоть до
реальных баррикад 1905 г., все-таки «ездит, ровный и покойный, как патрон его,
святой из Мирликии» [5, c. 161]. Это «ездит»,
– в настоящем времени применяемый писателем глагол в разных синонимических
вариациях, помогает утвердить мысль о незыблемости православных основ в
духовном бытии народа: «А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по
Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится, и крестится на углу Серебряного,
где Николай Явленный» [5, c. 161].
И уже прошедший через многие
испытания писатель призывал своих соотечественников, посылая им такой императив
в будущее: «Не позабывай уроков… Слушай
звон колоколов Арбата <…> Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и
голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого
стяжательства, ты, русский, гражданин Арбата… И Никола Милостивый <…> благословит путь твой и в метель
жизненную проведет» [5, c. 170].
В этом торжественном
напутствии ощутимо глубокое постижение художников христианского мировосприятия,
на основах которого только и должно строиться бытие; а любимая старинная улица
– Арбат – становится символом крепости этих основ не только в столичном
масштабе, но и в национальном. Заключительный поэтичный пассаж, являющийся одновременно ностальгическим взглядом в
прошлое и мечтательным заглядыванием в будущее, снова рисует картину в настоящем времени, создавая тем самым эффект вневременного единства бытия в
его сущностных, незыблемых началах: «А старенький, седой извозчик, именем
Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату, на клячонке Дмитровской, тот
немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не бояся пуль и лишь
замолк на время – он уж едет снова от
Дорогомилова к большому Афанасьевскому» [5, c. 170].
Образ Москвы имеет
концептуальное значение для понимания
основных идей романа Б.К. Зайцева «Золотой узор». Буквально с первых
страниц в художественное пространство романа входил этот образ, и именно –
Москвы православной, с обликом которой связана
была вся жизнь главной героини – певицы Натальи Николаевны. Она успевала
заметить, почувствовать еще в юности древнее, сакральное, кровное, что входило в их жизнь с этим городом:
«Вдалеке Иван Великий – золотой шелом над зубчатым Кремлем… И медная заря,
узкой полоскою – на ней острей, пронзительней, старинный облик Матери –
Москвы…» [6, c. 21]. Несмотря на признания Натальи Николаевны на
этих первых страницах о том, что она «не смела сказать», могла ли она назвать
себя христианкою, несомненно и то воздействие, которое оказывал на нее верующий
Маркел, водивший ее «к Борису и Глебу, на Двенадцать Евангелий», и тогда чтение
Евангелий ее растрогало. И с Маркушей же несли они Никитским бульваром
зажженные свечи пасхальные вместе с множеством других людей «в полумраке
весеннем», а в светлую заутреню «стояли в Кремле, в древней, покосившейся
церковке Константина и Елены, внизу под памятником Александру. Иван Великий и
Успенский собор были иллюминованы…» [6, c. 25]. А когда извозчик вез
их «в смутно – радостной, пасхальной Москве», «церкви сияющие встречались на
пути, люди с куличами и пасхами, дети со свечками. Колокольный гул тучей
приветливой стоял над Москвой», и от Андрониева монастыря, обернувшись в
пролетке, они увидели «на фоне слегка светлеющего уже неба тонкий ажур
иллюминованного Кремля» [6,c. 25]. «Вот она…матушка
наша…Москва православная, – говорил Маркуша… - Ну, смотри… все как надо» [6, c. 26].
На одной странице романа
упомянуто столько «знаковых» архитектурных памятников русского православия, что
создается впечатление изображаемого в этой экспозиционной части некий прочный,
воистину каменный, рукотворный фундамент,
который всегда был для русских людей и станет впоследствии и для его героини
мощной духовной опорой. Мы
подчеркнули здесь и глубоко символические слова Маркела, скрепляющие
эмоциональные впечатления Святой ночи: «…все как надо». Так в самом начале
романа Зайцевым интонирован мотив православного миросозерцания в его вековечной
и мудрой долженствующей сути.
Как верно замечено,
«топография “настоящего города” это далеко не все, ибо нельзя при этом не заметить
и зайцевской чисто русской “философии города”, почерпнутой из традиционного
религиозно-философского наследия национального сознания» [7, c. 80].
Думается, Б. Зайцев в своем восприятии
древней столицы как оплота православного миросозерцания русского народа
наследовал традициям русской классики, и особенно ‑ М. Лермонтова. В
замечательном очерке-эссе «Панорама Москвы» совсем еще юный юнкер лейбгвардии
гусарского полка, взобравшись на колокольню Ивана Великого, восторженно описывает
открывшуюся панораму столицы именно с проникновенным пониманием того, что перед
ним ‑ столица великого православного государства: «…Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча… нет! У нее есть
своя душа, своя жизнь… Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный,
звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как день, как уже со всех
ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов…» [8, c. 608]. И далее Лермонтов своим взглядом выхватывает
из открывшейся его взору панорамы именно монастыри, известные храмы, «древние
святыни России», собственно Кремль, который поэт называет «алтарем России» [8, c. 612].
Полагаем, Б. Зайцев, соотечественник
Лермонтова, спустя столетие, в начале ХХ века создававший свои произведения и
воспринимавший Москву в том же ключе, – с пониманием сакральной значимости Древней
Столицы в сознании своих современников, – самое важное связывал с ее образом.
Во второй части романа,
воспроизводящей драматические события
революционного лихолетья, возникает мотив защиты, исходящий из
одухотворенного образа Москвы. Так, Наталья Алексеевна, возвращаясь поздним
вечером домой после «хождений по мукам» в хлопотах об арестованном сыне,
отказывается от провожатого, размышляя: «Пожалуй, что и грабят. Это верно. Да
уж мне и все равно… Нет, Куда там. Ведь моя
Москва, родина и любовь – блестящая ль, разрушенная. Безразлично» [6, c. 263].
(Курсив автора). Так Москва буквально вписывается героиней Зайцева в круг самых
дорогих для человека жизненно-важных начал.
Однако постепенно образ
разрушенного города доминирует на страницах романа, интонируя мотив отчужденного пространства,
враждебного человеку. После гибели сына в застенках ЧК Наталья Алексеевна так
воспринимает окружающее: «Во сне бывает, что все то же видишь, но оно другое. Москва стояла как и прежде,
такой же снег, такие же дома, и серенькое небо. Но выражение лица! Это не та
Москва, которую я знала в юности, где любила, пела, это новый город, полный
злобы и безумья. Я не могла медленно ходить. Мне все хотелось бы бежать… Или
убежать? Пустыня, галки, мрак – проклятые места» [6, c. 273]. (Курсив автора).
На самых «драматичных страницах»
романа мотив защиты сохранялся лишь в связи с храмами столицы: «Мы старались
проводить больше времени в церквах… Лишь в пении, в словах молитв, чувствовали
мы себя свободнее, здесь мы дышали, тут был воздух, свет. Но страшно
возвращаться – в полуразгромленный и окровавленный наш особняк» [6, c. 273].
Возникающая в романе Зайцева
мифологема отчужденного города соотносима с художественным видением М. Булгакова
как автора «Белой гвардии», – произведения созданного в те же годы, где топос
Города как древней столицы распадающегося государства становится главнейшей
концептуальной доминантой (однако, это тема специального исследования).
Типология героев произведений
Б. Зайцева такова, что среди них нет образов людей, с
отчуждением и нелюбовью относящихся к своей родине, несмотря ни на какие
постигшие их бедствия. Так и в романе «Золотой узор»: здесь особенно сильно
звучит мотив закономерности постигшего русскую интеллигенцию наказания и вытекающий
из этого мотив покаяния, – снимающие осуждение и тем более, ненависть. В финале
романа отправляющиеся в вынужденное изгнание герои с радостью видят радугу,
вознесшуюся над Москвой, по-прежнему в глубине сердца воспринимаемой «родным
городом» [6, c. 294]. Очевидно, что отчуждение, враждебность,
исходящие из бывшего дорогим пространства, не становятся для них
самодовлеющими, главное для писателя и его героев – утвержденные в сознании представления о сакральной значимости
Москвы как столицы любимой ими России, – не случайно на последних страницах
романа всплывают слова Натальи Алексеевны, сказанные когда-то англичанину сэру
Генри: «Россия – первая в мире страна» [6, c. 290]. Художественно эта
идея надежности и вечности того духовного фундамента, на котором покоится
столица, решен Б. Зайцевым во многом благодаря мифологеме камня, воплощающей незыблемость национальных святынь [9].
Позднее Б.К. Зайцев в
замечательном «Слове о Родине» (1938)
писал об усиливающемся с годами чувстве
России: «Многое видишь теперь о Родине по-иному… чище общетысячелетний
облик Родины. Сильней ощущаешь связь истории, связь поколений и строительства и
внутренне их духовное, ярко светящееся, отливающее разными оттенками, но в
существе своем все то же, лишь вековым путем движущееся: свое, родное» [10, c. 375].
В этих словах обобщенно сформулирован свойственный многим мыслителям и
художникам эмиграции обобщенно-исторический взгляд на Россию как на духовно-цельный организм, способный,
несмотря ни на что, в глобальном своем бытии оставаться верным своему
национальному естеству, своему высшему Божественному предначертанию.
Осмысление прошлого с
подобных позиций приводило к закономерному стремлению утвердить значимость вековых традиций, питавших «живую жизнь»
русской духовности. Постоянная составляющая художественного сознания
писателей-эмигрантов мифологема «утерянного рая», чаще всего осмыслялась как ушедшая государственность.
Ив. Бунин (1870-1953) В
статье «Инония и Китеж», посвященной 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого (1925),
писал: «Толстой называл себя “певцом, державшим стяг во имя красоты”. Он был,
как один из его любимейших образов, как Иоанн Дамаскин, “борец за честь икон,
художества ограда”» [11, c. 140]. На врагов,
разрушающих Русь, он, пишет Бунин, «смотрел глазами древней христианской Руси:
это воплощение мерзости всего бусурманского, дьявольского…» [11, c. 140].
Свои суждения Бунин подкрепляет цитированием Вл.С. Соловьева, писавшего об А.К.
Толстом: «…Он мерил
благо отечества высшей мерой. И он не ошибался: нам нужно развитие тех
христианских истинно-национальных начал, что было обещано светлыми явлениями
киевской Руси» [11, c. 141]. Приводя строки из лирических произведений А.К. Толстого,
посвященных древней Руси, Бунин, как и автор приводимых строк, пытался в
прошлом увидеть обнадеживающие знаки-символы чаемого будущего: «Конь несет меня
лихой,/А куда? Не знаю!» – надежда высказывалась поэтически недвусмысленно:
«Иль влечу я в светлый град/Со Кремлем
престольным? / В град, где улицы гудят / Звоном колокольным?» [11, c. 143].
Как видим, в идеальном
восприятии Ив. Бунина, «опрокинутом» в прошлое, Москва живет как образ столичного
престольного града. Что касается времени лихолетья, то его образ, пластично,
образно, протокольно и одновременно символично воссозданный в дневниковых записях писателя 1918–1919 гг.,
названных «Окаянные дни», как раз и содержит в себе заглавный доминантный
мифопоэтический образ – каиновой
печати,предательства. В образ такого
мира, мира окаянных дней, вписывается писателем и образ Москвы –
расстрелянной, опустошенной, преданной. И так же, как у Б. Зайцева, в этом
контексте возникает мотив усиливающейся любви к Москве православной: «Я как раз
смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото
его древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор
– до чего все родное, кровное и только теперь как следует прочувствованное,
понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно» [12, c. 34]. И тот же мотив
защиты, что чуть позднее прозвучит у Б. Зайцева в тексте романа, у Ив. Бунина возникает в его
проникновенных дневниковых записях: «А потом я плакал на Страстной неделе, уже
не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди
темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно
озаренных красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: “Волною
морскою… гонителя, мучителя под водою скрыша…”» [12, c. 127].
Образ Москвы не раз
возникает на страницах дневниковых записей Ив. Бунина, по-разному
интонированный (здесь мы обратились лишь к его доминантным значениям), – Бунин,
как известно, был по преимуществу московский житель. Образ же Петербурга дан эпизодически,
но в очень значимых концептуальных константах. Воссоздавая ситуацию весны 1917 г.,
писатель рисует образ неузнаваемого
пространства города: «…я согласился, сел и поехал – и не узнал Петербурга
<…> Невский был затоплен серой толпой, неработающими рабочими, гулящей
прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и красными бантами, и
похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь» [12, c. 69].
После поразившего его своей точностью высказывания извозчика о том, что народ стал,
«как скотина без пастуха», писателем овладело безысходное чувство: в тексте
возникает мотив потери: «Я в Петербурге почувствовал это
особенно живо: в тысячелетнем и огромном
доме нашем случилась великая смерть, и дом был растворен, раскрыт настежь и
полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и
запретного ни в каком из его покоев» [12, c. 69].
Как это свойственно Бунину,
его зарисовки внешнего мира – никогда не
самоцель, за их сиюминутной колоритностью всегда ощутима онтологическая
масштабность мышления писателя. Так и здесь: образ столицы огромного
государства поражает своей трагичностью, обусловленной непостижимой
абсурдностью происходящего. У Бунина возникает образ города, потерявшего в
крушении империи свою исконную сущность – быть главой страны. Эта мифологема потерянной сущности мощно
интонирована в тексте мотивами имитации
жизни, поругания святынь. На фоне
вечных традиционных ценностей эти мотивы звучат особенно драматично: «В мире
тогда была Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие
прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами
преобладала безмерная печаль. Перед отъездом я был в Петропавловском соборе.
Все было настежь – и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил
праздный народ, посматривая и поплевывая семечками <…> Весна, пасхальные
колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная
могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…» [12, c.
72].
Как видим, у Бунина, – как
это будет и у Зайцева, и у Зурова, и у Шмелева, – надо всем изображаемым
возносится интонация великой печали,
библейская интонация, исключающая проявление злых, мстительных чувств, и
являющаяся залогом будущего воскресения: ведь смерть, по Бунину, была «в этой весне», а о будущей писатель будет
молиться потом и в темных маленьких московских церквах, и в храмах прекрасного
южного города – Одессы - уже перед самым отъездом из России, ‑ лишь там он
находил «мир всего того благого и
милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание» [12, c. 131].
Духовные устои русской
государственности в их многовековом течении,
прирастании зачастую рождали у писателей внутреннюю соотнесенность с
онтологическим топосом реки, мифологемой древа
жизни. Так, Ив. Бунин в цитированном очерке памяти А.К. Толстого писал о существовании в
творческом феномене писателя воспоминания
как мистического прозрения, озарения: «…воспоминание это, религиозно звучащее
во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то
делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой
церкви живых и умерших. Оттого-то так часто и бывают поэты так называемыми “консерваторами”,
т.е. хранителями, приверженцами прошлого. И оттого-то так священны для них
традиции и оттого-то они и враги насильственных ломок растущего древа жизни» [11, c. 148] (Курсив мой. ‑ В.З.).
Образ Москвы не раз
возникает на страницах дневниковых записей, Ив. Бунина, по-разному
интонированный, но всегда выразительно передающий самые важные авторские
интенции. Возникает образ Москвы и в
ряде рассказов 1920-х годов: «Несрочная весна», в цикле «Под серпом и
молотом». Так, в рассказе «Из записей неизвестного», посвященном впечатлениям
от Москвы послереволюционной, встречаем микросюжеты, очень схожие со
шмелевскими. Здесь повествование ведется от первого лица: «В прекрасный
сентябрьский вечер шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой
колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный… На могиле Гоголя таинственно и
грустно светил огонек неугасимой лампады и лежали цветы. Возле стояли старичок
и старушка, старомодные на редкость. Я спросил, кто так хорошо содержит могилу.
Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете все погибло? Нет еще…» – затрясся и
заплакал» [13, c. 160].
В ограниченных рамках
статьи нет возможности умножить примеры,
подобные приведенному. Однако можно смело утверждать, что текст «Записок…»
убеждает, насколько близок был бунинский взгляд на происходящее в Москве в пореволюционные
годы восприятию Ив. Шмелева.
Художественное
мировосприятие одного из самых талантливых представителей младшего поколения
писателей русской эмиграции первой волны Л.Ф. Зурова (1902-1971) было во многом
родственно бунинскому, о чем свидетельствует все его творческое наследие. В
данном параграфе обратимся лишь к опубликованным автором отрывкам из
неоконченного романа Л.Ф. Зурова «Зимний дворец», посвященного событиям революции
и гражданской войны. Судя по этим фрагментам, в присущей автору манере
описываемое дается через восприятие героя, – в данном случае офицера Лосева,
приехавшего ненадолго в Петроград с фронтов первой мировой войны (первый отрывок
называется «Петрополис»).
В лирико-философской прозе
Л. Зурова упор делается на интуитивное осмысление происходящего. Его героям во
многом помогают в этом субстанциональные жизненные начала – природные,
глубинно-исторические – которые они способны глубоко и проникновенно осмыслять.
В анализируемом отрывке такую роль играет образ города, данный сквозь призму
восприятия героя. Это – город, отчужденный от человека, переставший быть ему
защитой, более того, переставший быть столицей,
защитой целому государству, – город, ощущавший свою трагическую обреченность:
«Бесприютно и странно становилось человеку на пустых площадях, увеличенных
туманом, и хотелось скорее их перейти, словно на площади, на открытой
неизвестным взорам поляне, человеку угрожала опасность» [14, c. 22].
Но в то же время с образом
города связаны и обнадеживающие героя чувства: это происходит в ночи, которая
для героя тоже является субстанциональным началом, воплощающим знакомые по его
романам мотивы непостижимой космической взаимосвязи всего живого: «Трагическая
обреченность владела городом. Столицей он уже не был – не было ни столицы, ни прежней России – старая жизнь
продолжалась, но все, все летело туда, в какую-то ночь детских снов… и ночь
была неоглядна, ирреальна, но реальнее, чем днем: ночью было что-то от
вечности, божественной, творческой, … и хотя на улицах грабили, раздевали,
ночью город погружался во тьму. И тут, под осень, была свобода ветру, бандитам…
Но все же, во время остановки на набережной, крепко запахнувшись от невского
ветра, поднимая воротник, человек, посмотрев на него неожиданно, первый раз в
жизни задумался, словно от ветра, от свободы, широко разлитой кругом <…> у
него, как у отвыкшего от воздуха, пьянело сердце, кружилась бедная голова, и он
чувствовал, что… все таинственно изменилось, изменился и он сам, и об этом
изменении, как о любви и о смерти, ни передать, ни рассказать, – можно
чувствовать только, что то, что совершалось теперь с ним и со всеми, –
торжественно, страшно, как в ночном нечеловеческом хорале, в чем участвуют боги
и звери, и он сам бог и зверь… Все казалось легко в этой ночи, и величайшие возможности были открыты
человеческому сердцу» [14, c. 23].
Есть в цитируемом фрагменте
и свойственное писателю, несмотря на такое смиренно мудрое, всепрощающее приятие
этой общей национальной судьбы (а, может быть, и благодаря ему), выражение
светлой надежды через столь любимый им образ
неба, всегда выражающий в его произведениях, как и в произведениях Ив. Бунина,
Б. Зайцева прекрасное, целесообразное,
объединяющее начало всеобщего бытия: «А по вечерам, когда прояснялось,
когда разливался закат над Невой, отходящим императорским Петроградом, над
спутанной и сложной человеческой жизнью, над городом европейских принесенных
отовсюду стилей, храмов, дворцов; когда разливался закат над Невой … над
Ладожским озером, принимающим в себя новгородские реки, изливающиеся в море
Невой, – и было видно, что Нева соединена вечно с небом, залита северным
осенним закатом, небом, раскинувшимся светло и печально над устающим к вечеру
городом» [14, c. 23].
Ю. Мандельштам, высоко
ценивший художественные достижения Л. Зурова-романиста, выделил среди доминант
его стиля «непрерывную авторскую напряженность, глубокий душевный трепет,
доходящий порой до неподдельного пафоса» [15, c. 179]. «Фраза его, –
замечал критик, – богатая образно и ритмически, полностью подчинена этому
напряжению, но одновременно упорными повторениями внедряет в наше сознание,
наподобие заклинания, некий трагический лейтмотив» [15, c. 179].
Анализируемые отрывки позволяют увидеть в них дальнейшее устремление писателя
по пути такого рода художественного письма.
В эмигрантской критике
онтологический характер эмоциональных пассажей Зурова не остался незамеченным.
«В произведениях Зурова, – писал С. Жаба, – чудесный, своеобразный язык,
всепроникающее чувство жизни, безошибочное чувство вечной России со всей ее горькой
и знаменательной судьбой» [16, c. 522].
Несомненно, фрагменты
неоконченного романа Л. Зурова «Зимний дворец» позволяют обнаружить в них черты
индивидуально-авторского художественного сознания, присущие писателю, ярко
выразившиеся в его романах и, вместе с тем, типологически родственные
неореалистическим открытиям русской прозы ХХ века. Так, в лирико-философской
прозе Зурова, отличающейся композиционной фрагментарностью, именно лирическая
эмоция, как и в прозе Ив. Бунина, Б. Зайцева, Ив. Шмелева стала не только
стилеобразующим, но и сюжетообразующим фактором. Во многом это объяснялось
самим характером этой эмоции, а именно – ее онтологичностью, вскрывающей
сущностные пласты национального самосознания. Обрести же онтологическую масштабность
изображаемого, проникнуть в эти пласты помогает присутствие в художественном
сознании авторов мифопоэтической доминанты. Мифопоэтическое осмысление урбанистического
пространства в анализируемых произведениях даже на примере
формирования одной из мифологем – мифологемы
столицы – способствовало глубине осмыслении писателями сути произошедшего в
России трагического излома национальной судьбы.
Далее обратимся к малой
прозе и публицистике эмиграции, где на примере воссоздания образа Москвы
выявилось стремление писателей нарядус обозначенной темой
художественно-многомерно выразить свою оценку
недавно произошедшего, свои представления
о будущем.
Обратимся к рассказам Ив. Шмелева
(1873-1950), написанным в 1920-е годы, в которых возникает образ Москвы, раскрываемый
в разных аспектах. С точки зрения восприятия всего метатекста Шмелева эти
рассказы воспринимаются как этюды к
будущим большим полотнам автора – «Богомолью» и «Лету Господню». А именно эти
произведения ярко воплощают пасхальность,
являющуюся, по справедливому утверждению И.А. Есаулова, «важнейшим
конституирующим фактором для отечественной культуры» [17, c. 549].
Шмелевские же «этюды» же в этом плане оказываются глубоко значимыми.
Показателен цикл «Сидя на
берегу» (1926). В рассказе «Океан», открывающем этот цикл, писатель погружается
в лирико-философский поток размышлений: «Сидя на берегу, внимаешь… Верная – где
дорога? Цели великого кружения, шума? Качается океан безмерный, бездумно
втягивает в себя, вливает. Живая душа, где ты?
Я вслушиваюсь в себя,
внимаю.
Крик петухов за лесом,
кукушкин позыв, омытый лесною глушью, и благовест дальней церкви – приводят ко
мне родное. Смотрит оно в меня и плачет. Я нежно касаюсь его пугливой думой, и
это чудесное посещенье рождает во мне надежды… Покорный зову, я расскажу этот
шепот сердцем. И он не уйдет со мною» [18, c. 200].И далее включается
рассказ «Крестный ход», как подтверждение выполнения обозначенной писательской миссии: «…родное не уйдет
со мною…» [19, c. 202]. Глубокое погружение в себя приводит Шмелева не
просто к воспоминаниям, но – к пониманию необычайной важности того, что потеряно: «В лесной тишине залива,
куда океан приходит в положенные сроки, думаю я о прошлом. И вот – бытие,
живое, душа над тленьем. Не безумное мертвое качанье, плесканье бессчетным счетом,
свинцовая даль, пустая, – а Дух ведущий – святое в человеке.
“…Иже везде сый и вся
исполняяй…”
В звоне ли сосен чудится мне
эта святая Песня, или это душа моя?.. Под благовест чужой церкви слышу я наши
звоны, наши святые Песни» [19, c. 200]. Здесь мы встречаемся
с повествовательными структурами, которые войдут органично в «Богомолье» и
«Лето Господне»: «Закрою глаза – и вижу…» [19, c. 200].
Особенно знаменателен здесь
образ океана – уже в метафорическом значении: «…знамена Церкви. Золото, серебро
литое, темный, как вишни, бархат грузным шитьем окован. Идет не идет, – зыбится
океан народа. Под золотыми крестами
святого леса знамен церковных – грозды цветов осенних: георгины, астры, –
заботливо собранное росистым утром девичьими руками московки светлоглазой. <…>
Святое идет в цветах. Святое – в Песне» [19, c. 201]. (Здесь и далее в
цитатах курсив мой. – В.З.)
Здесь важна не только глубокая соотносимость красоты и
значимости для народа самого Крестного хода. Но – понимание его важнейшей
онтологической сущности: стремления приблизиться к Богу, понять, почувствовать
Его Господню волю, выразить свою надежду на заступничество Богоматери, древних
святых. «Сталкиваясь, цепляясь, позванивая мягко, плывут и блещут тяжелые
хоругви, святые <…>.
Подняты над землей Великие
Иконы – древность. Спасов Великий Лик, темный-темный, черным закован золотом.
Ярое Око – строго. Пречистая, Богоматерь Дева, в снежно-жемчужном плате,
благостная, ясно взирает лаской.<…>.
Шумит океан народный, несметную силу чует: тысячелетие нес
знамена!» [19,
c. 201].
И.С. Шмелев в образе океана народного дает понять не только
его огромность количественную в настоящем времени, но и первоосновную связь с
тысячелетней духовной традицией русского народа: «Я вслушиваюсь в себя. Поют…?
Сосны поют. В гуле вершинных игл слышится
мне живое: поток и рокот.
Этот великий рокот, святой
поток – меня захватили с детства. И до сегодня я с ними, в них. С радостными цветами
и крестами, с соборным пением и колокольным гулом, с живою душой народа. Слышу
его от детства – надземный рокот
Крестного Хода русского, шорох знамен священных» [19, c. 202].
Так непостижимо связывается в сознании писателя сиюминутное (но – не случайное,
а Божественно-целесообразное): рокот океана и гул сосен – и прошлое, которому
надлежит быть вечным в духовной истории страны. Эффект вневременного единства христианского бытия, гениально
воплотившийся во многих шедеврах Шмелева, здесь уже обнаруживается явственно.
Удивительные созвучия
обнаруживаются здесь у Шмелева с Лермонтовым. Через образ крестного хода
Шмелев, по сути, дает динамичную панораму «храмовой Москвы» как оплота православного
миросозерцания русского народа. И эта панорама имеет созвучность подобной
традиции ее восприятия, особенно у юного М. Лермонтова, и именно в связи
с образом-символом океана как воплощении
необычайного могущества и таинственной непостижимостиВозвращаясь к рассказу
Шмелева, заметим: главный вопрос, вопрос
о будущем, который писатель задает себе, сидя на берегу океана, переносится в
финал: «Услышу ли гул надземный – русского моря-океана?..
Вслушиваюсь в себя, спрашиваю немою мукой: будет ли,
Господи?!..
Сердце мое
спокойно».»
[19, c. 202]
Л.А. Спиридоновой верно отмечена
и глубоко проанализирована сложность образа
Москвы у Шмелева, постоянно присутствующего и в прозе, и в публицистике
писателя. Апеллируя к категории исторической памяти в творчестве И.С. Шмелева,
исследователь отмечает: «Глядя на Кремль, мальчик чувствует себя самого живым
свидетелем истории города, ему кажется,
что он помнит все: дым пожаров, крики и
набат, бунты, топоры, плахи и молебны. Причастность ко всем событиям,ушедшим в
далекое прошлое, связывает шмелевских героев с их предками. “По-мни!” –
постоянно слышат они в колокольном звоне» [20,c. 147]. Именно эта живая
связь и помогает писателю сохранить свою веру и надежду в обнадеживающее
будущее своей родины и транслировать эту веру в том числе и через сложно
сконструированный образ Москвы.
В исследуемом нами цикле –
три рассказа, посвященных образу Москвы: помимо рассказа «Океан» –
«Город-призрак» и «Москва в позоре». Уже по заглавиям можно понять, что интонационная градация
восприятия образа идет по нисходящей. Последние два рассказа были
целенаправленно проанализированы Е.А. Коршуновой: лики Москвы у Шмелева автор
соотносит с широким спектром интертекстуальных связей, преимущественно из
литературы Серебряного века, упоминается о концепции «Москва – Третий Рим»,
важной для Шмелева [21].
Наша задача – связать здесь
воедино все три рассказа, чтобы воссоздать концептуальную цельность цикла.
Образ родился из воображения писателя, сидящего там же, на берегу океана: «Город-призрак.
Он явился моей душе; нетленный, предстал на
небе. Ибо земля – чужая.
Я лежал на песке, в лесной
тишине залива. Смотрел на небо… Белое, синь да золото… Облака наплывали с
океана, невидного за лесом… Быстро менялось в небе » [22, с. 203].
И далее воображение писателя
зримо, пластично, «звучно» воссоздает прекрасный облик Храма Христа-спасителя,
увиденный со стороны Замоскворечья, где жил Шмелев. Описание увиденного дается в настоящемвремени. «В Храме всенощная
идет. Колокола переговариваются печальным звоном, один за другим, редко… Звон
великого Храма чудный: много в нем серебра, и медь его по-особому певуча:
глухая, мягкая, будто земля взывает. Из мягкого камня Храм, песчаный, светлый.
Стены его – все наше: память о собиравшейся ратными силами России. Александр
Невский, Дмитрий Донской, Владимир, Ольга… Какая даль!» [22, c. 204].Как
видно, храм воплощает для писателя
память о ратных подвигах своих предков, о великих святых. В таком же
концептуальном освещении дан и образ Кремля: «Сколько там спит святого,
крепкого и бессмертного, кровного нашего, родного, под сводами соборов
полутемных, тесных, хоть и неладно, да крепко сбитых из тесаного камня! Там
Святители почивают, водители народа смутного, степного, лесового. Сколько там
целости духовной, любви и жертвы! <…> И Спас Темный, неусыпным взирает
Оком. Что провидит России в далях?<…>.
И я уношу с собою призрак чудного города.
Покойная простота и сила.
Белый камень и золото» [22, c. 206].
Спокойствие и уверенность
писателя предается и читателю. Город-призрак у Шмелева, явившийся у океана в далях океана небесного, живет в непостижимой
вневременной вечности онтологически воспринимаемого бытия. Москва здесь
символически соотносима с Градом Небесным Иерусалимом.
Последний же рассказ цикла –
«Москва в позоре» – интонирован в ином ключе. Речь идет уже об образе Москвы
революционного времени, времени страшных разрушений. Теперь в воспоминаниях
писателя встают другие картины: «Помню Москву в расплохе, – дым и огни разрывов
над куполами Храма … Помню свое Замоскворечье – темень осенней ночи, безлюдье
улиц, глушь тупиков и переулков. Прятались за углами тени. Человеческого лица
не видно – только тени. Так и по всей России» [23, c. 206]. Рассказ построен по
принципу «уличной многоголосицы»: безымянные голоса высказывают свои суждения о
происходящем. Здесь у Шмелева явно звучит мотив Богооставленности, который был
слышен и в «Солнце мертвых». Однако, как известно, вскоре, уже произведениях этого же периода, он вновь претворяется в ведущий для всего
творчества писателя мотив непреходящей веры и надежды.
Это очевидно и по многих
ярким публицистическим произведениям Шмелева: «Душа Родины», «Драгоценный
металл», «Золотая книга» – и др. В связи же с образом Москвы
выделяются очерк «Мученица Татьяна» (1930) и памятка «Душа
Москвы». Первый из них посвящен, конечно, Московскому императорскому
университету, покровительнице которого была мученица Татьяна, точнее, его
175-летнему юбилею.
Эмоционально начинает свой
очерк писатель, призывая не праздновать, а поминать императорский университет:
«Праздновать мы права не имеем, и нет у нас оснований праздновать: нашего
университета нет. Мы можем его только поминать; и, поминая, каяться» [24, c. 496].Да,
речь идет о том, чтов российскихуниверситетах не было тогда достойного внимания
к национальной духовной традиции. В этом писатель видит одну из причин бед,
обрушившихся на Россию, приводит массу примеров верующих русских ученых, роль
гения Пушкина, Достоевского. И он верит: «Этот кошмар пройдет, и вновь обретет
Татьяну мужественный, русский человек <…> подлинно будет ценить ее,
бесценную, и детей научит хранить ее – великой науке познания своей Матери –
России» [24, c. 502]. Так образ мученицы Татьяны, покровительницы
Московского университета, становится символом покровительства всех верующих
людей России.
Примечателен очерк «Душа
Москвы», названный Шмелевым «памяткой». Страстно желалось писателю,
исполняющему свою посланническую миссию в эмиграции, чтобы запечатлелось в
памяти потомков то прекрасное, возвышающее начало Добра, которое составляло «душу Москвы». Этот очерк коррелирует
с очерком «Душа России», являясь его органическим дополнением. Здесь Шмелев
напоминает о многовековой
благотворительной традиции русского купечества, предпринимательства: « <…>
И это – “темное царство!” Нет: это свет из сердца» [25, c. 506].
Итак, подводя итоги, заметим следующее. У больших художников нет малых и больших тем. Большие художники имеют возможность талантливо, мощно, звучно донести до читателя волнующие думы и на малом повествовательном пространстве, – в таких жанрах, как «очерк», «записки». Возникающий в их произведениях 1920-х годов образ Москвы позволил Ив. Шмелеву, Ив. Бунину, Б. Зайцеву, Л. Зурову показать могучие истоки национальной духовной традиции, связанной в народе с восприятием первопрестольной столицы русского государства и с ними же связать свою надежду на будущее возрождение этой традиции.
В целом обращение писателей русской эмиграции к художественному
постижению образов провинции и столицы (равно Москвы или Петербурга) позволил им представить красоту русской жизни в ее исторической целостности и показать губительность революционных изломов национальной судьбы.
1. См., например: Павловский А.А.
«Петербургский текст»: задачи исследования // Из истории русской литературы ХХ
в.: межвуз. сб. ст и публ. СПб: Санкт-Петербургский
государственный университет, 2003. (Петербургский текст, вып.2); Москва
– Петербург: proetcontra. Диалог культур в истории национального самосознания:
антология. СПб: Изд-во РХГИ, 2000; Москва и «московский текст» русской
культуры»: сб. ст. М.: РГГУ, 1998; Москва
и «московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве
русских писателей. Вып. 5. М.: МГПУ, 2010; Сибирь: взгляд извне и изнутри.
Духовное измерение пространства. Иркутск: МИОН, 2004; Нижегородский текст
русской словесности. Н. Новгород: НГПУ, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017,
2019, 2021; Орловский текст российской словесности: творческое наследие
И.А. Бунина. Орел: ОГУ, 2010 и др.
2. Топоров В.Н. Петербург и
«Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Миф. Ритуал.
Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М.: Изд.
группа «Прогресс» – «Культура», 1995. C. 259–367.
3. См.: Анциферов Н.П. Проблемы
урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города –
Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций. М.: ИМЛИ
РАН, 2009; Московская Д.С. Н.П. Анциферов и художественная
местнография русской литературы 1920- 1930-х гг.: к истории взаимосвязей
русской литературы и краеведения. М.: ИМЛИ РАН, 2010.
4.
Мяновска Иоанна.
Русское религиозное сознание в изгнании (на материале тетралогии Б.К. Зайцева
«Путешествие Глеба» // Zpolskichstudioslawistycznych. Seria X,
Literaturoznawstvo. Kulturologia. Folkloristica. Warszawa: Panst. wydaw. nauk.,
2003. С. 203–210.
5. Зайцев Б.К. Улица Святого
Николая // Зайцев Б.К. Улица Святого Николая: Повести и рассказы. М.:
Художественная литература, 1989. C. 319-330.
6. Зайцев Б.К. Золотой узор // Зайцев Б.К. Золотой узор. Роман. Повести.
М.: Интерпринт, 1991. C. С.15-298.
7. Возьняк Анна. Культурно-архетипическое
паломничество из Москвы в Рим. «Золотой узор» Бориса Зайцева // Pochwalaroznorodnosci. ROSJA. Mysl. Slovo. Obraz. Krakov: CollegiumColumbium, 2010. C. 69–84.
8. Лермонтов М.Ю. Панорама Москвы // Лермонтов
М.Ю. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Правда, 1990. C.608-612.
9. См. об этом: Захарова В.Т. Мифологема камня в художественном сознании Б.К. Зайцева // Традиции в русской
литературе: межвузовский сб. науч. тр. Н. Новгород: НГПУ, 2011. С. 132–142.
10. Зайцев Б.К. Слово о Родине // Русская идея.
М.: Республика, 1992. С. 374–378.
11. Бунин И.А. Инония и Китеж //
Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвестный Бунин. – М.: Молодая гвардия, 1991.
С. 138–154.
12. Бунин И.А. Окаянные дни // Бунин И.А.
Окаянные дни: Неизвестный Бунин. – М.: Молодая гвардия, 1991. С. 20–154.
13. Бунин И.А. Из записей неизвестного
// Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвестный Бунин. – М.: Молодая гвардия,
1991. С. 154–177.
14. Зуров Л. Петрополис (Отрывок из романа) //
Встреча. Сборник объединения русских писателей во Франции. Сборник 1.
Париж, июль, 1945.
15. Мандельштам Ю.
Л. Зуров. Поле // Круг. Альманах. Книга 3. Париж:Дом книги, 1938.
С. 176–179.
16. Жаба С. Памяти друга. (К годовщине смерти
Л. Зурова) //
Новый журнал. Нью-Йорк. 1965. № 79. С. 45. С. 519–522.
17. Есаулов И.А. Пасхальность русской
словесности. М.: Кругъ, 2004.
18. Шмелев И.С.
Океан // Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 5 тт. Т. 2. Въезд в Париж. М.:
Русская книга, 1998. С. 198–200.
19. Шмелев И.С. Крестный ход // Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 5
тт. Т. 2. Въезд в Париж.
М.: Русская книга, 1998. С. 200–202.
20. Cпиридонова Л.А. Художественный мир И.С. Шмелева: монография. М.:ИМЛИ РАН,
2014.
21. Коршунова Е.А. Лики Москвы в очерках И.С. Шмелева «Город-призрак» и «Москва в
позоре» // И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья. ХVIII Крымские международные Шмелевские
чтения: сб. науч. ст. межд. конф. 17–22 сентября 2009 г. Алушта: Антиква,
2011. С. 73–80.
22. Шмелев И.С. Город-призрак // Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 5
тт. Т. 2. Въезд в Париж.
М.: Русская книга, 1998. С. 203–206.
23. Шмелев И.С.
Москва в позоре // Шмелев И.С.Собрание сочинений: в 5 тт. Т. 2. Въезд в Париж. М.: Русская книга, 1998. С. 206–209.
24. Шмелев И.С. Мученица Татьяна //
Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 5
тт. Т. 2. Въезд в Париж.
М.: Русская книга, 1998. С. 496–503.
25. Шмелев И.С. Душа Москвы // Шмелев И.С. Собрание Сочинений: в 5
тт. Т. 2. Въезд в Париж.
М.: Русская книга, 1998. С. 503–507.
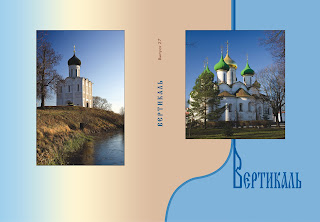



Комментарии
Отправить комментарий