Василий КИЛЯКОВ. КАПИТАЛ. Рассказ. Журнал "Вертикаль. ХХI век". № 79. 2023 г.
Проза
Василий КИЛЯКОВ
Московская область
Василий Васильевич Киляков родился в 1960 году в Кирове. После
окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1996 году (мастерская М.П.
Лобанова). Член Союза писателей России. Живет в городе Электросталь Московской
области.
Дорогой
Валерий Викторович!
В это тяжкое
время ещё раз благодарю Вас за публикацию прекрасной статьи «Предстояние»
о Михаиле Петровиче Лобанове, написанной его учеником Василием
Киляковым. Снова сбывается в наши дни предсказание Михаила Лобанова
(сделанное им ещё в конце 1960-х годов), что в будущем «рано или поздно
смертельно столкнутся между собой две непримиримые силы — «американизм духа и
нравственная самобытность» народа (журнал «Молодая гвардия», 1968, № 4). В
журнале этом, как помним, ещё в шестидесятые годы зазвучала патриотическая,
почвенная традиция, связанная с православной духовностью.
Как жизненно
необходима эта лобановская традиция в наши времена экспансии «плюрализма» и
воинственного космополитизма (под видом «общечеловеческих ценностей»),
агрессивного западничества, когда махровым цветом расцвела «новая»
«демократическая», денационализированная литература, которой глубоко ненавистны
традиции великой русской литературы, — те живоносные традиции, которые продолжаете
в своём творчестве и Вы, дорогой Валерий Викторович...
Ещё в начале
2000-х (в том числе в ряде работ, опубликованных в ИМЛИ, «Нашем современнике»)
мне довелось писать об этой духовной агрессии, угрожающей на этот раз самим
основам нашего исконного бытия: словно невидимая цензура вычеркивает (в том
числе и из школьных пособий) имена писателей круга русской традиции, внедряет
«подсадных», постмодернистов-нигилистов, пытаясь уничтожить сам тип русской
(православной) культуры; последовательно проводится в жизнь и такой принцип:
антисоветское неизменно принимает характер антирусского (Окулова-Микешина
Т.Н. Герои и — битвы за них» — «Наш современник», 2005, № 2).
Увы, а воз и
ныне там (достаточно упомянуть постыдное награждение недавно Литературной
премией имени И.А. Гончарова одного из «успешных»
нынешних райтеров (вросших, по слову М.П., в дьявольскую систему
обогащения) отъявленного матерщинника, глумящегося над традициями русской
классики и истории, за некое антихудожественное изделие (в духе чонкиных)...
Знаю, как
Михаил Петрович всегда ценил, пестовал корневых русских писателей, в том числе
и лучших его учеников, в произведениях которых живы плодотворные духовные,
этические (с постоянной социальной ответственностью) традиции тысячелетнего
русского слова. Посылаю сегодня Вам, дорогой Валерий Викторович, в ваш
прекрасный журнал на земле Минина и Пожарского, рассказ вышеупомянутого
талантливого писателя Василия Васильевича Килякова (по просьбе самого автора)
«Капитал» — рассказ, который Михаил Петрович читал своим студентам на семинаре
в Литинституте как классический образец современной русской прозы, характеризуя
это произведение как «трагедию 90-х — в истории семьи». (Да разве только 90-х —
как видим сейчас.) Именно этим рассказом открывается, кстати, и
«беспрецедентный» (по слову предшествующего ректора Литинститута Б.Н. Тарасова)
сборник «В шесть часов вечера каждый вторник. Семинар Михаила Лобанова в
Литературном институте (К 50-летию преподавательской деятельности в
Литературном институте выдающегося писателя, критика, публициста, общественного
деятеля). М.: Изд.-во Литературного института им. А. М. Горького, 2013. 480
с.).
Да хранит и
помогает Вам, дорогой Валерий Викторович, Господь в
Вашем благородном служении на ниве Русского просвещения!
С самыми тёплыми пожеланиями,
Татиана Окулова, старший
научный сотрудник ИМЛИ РАН,
член Союза писателей России
КАПИТАЛ
Рассказ
В Осиновке не было
объездчика злее Фомы Кукина. В свои сорок с небольшим выглядел он подростком:
невысок, рыжеволос, голова маленькая, острой тыковкой, густо поросшая волосами
морковного цвета. Лицом красен, конопат и так курнос, как бывают еще курносы
малорослые, в третьем колене осевшие в России немцы, коротконогие, с подмесом
мордовских кровей.
И сквернослов был на
редкость. И хоть не выговаривал он «б» – «Бог» (а говорил «пох»), но матерщина
эта богохульная страшила до дрожи осиновских, до озноба – столько зла,
ненависти вкладывал он в крик:
– С-стой! – кричал он
на поле, застав старуху за выкапыванием картошки, – стой, в пока, в душу мать!
Засеку!.. И так гнал лошадь, хлестал ее – ожаривал наотмашь то с одного бока,
то с другого, что обомлевшая, чуть живая от страха старуха бросала и ведро, и
мешок с голландской картошкой, и ударялась бечь, ни жива ни мертва от страха.
– Ой смотри, –
предупреждали Фому осиновские, – смотри, Фома, уж очень ты лют и матершинник.
Сказано: все простится человеку, но хула на Духа святаго не простится – ни в
этом мире, ни в будущем.
– Ты мне зубы не
заговаривай. Вытряхивай картошку из мешка. Пешь потащишь к хозяину. Ишь,
умная... Всю до единой выкладывай, засеку насмерть! – и волок за собой верст
пять-шесть, до конторы учетчика, где на вора или воровку накладывали штраф.
– А ты меня не пужай,
не боюся, – одергивая подол рваной телогрейки, отвечала старуха, осмелев и
отойдя от страха на выходе из конторы, и с упреком добавляла:
– Ба-арину служишь,
холуй.
Фома был и впрямь
неразборчив. Раз, застав на яблоне в саду возле казенного пруда
мальчишку-сироту, так ожег ременным кнутом, что бедняга замер и небо показалось
с овчинку. Мальчик Филька так и явился домой, онемевший, мокрый. Залез он,
дрожа, на печь и на вопросы не отвечал, только молча плакал. Тетка его,
явившись из районной больницы, куда она ходила ежедневно за пятнадцать верст
туда и пятнадцать – обратно на заработки санитаркой (другой работы не было в
разваленном, со скупленной землей бывшем совхозе), отодвинув шторку над печью и
разглядывая спину мальчонки, обомлела:
– Вот хамлет, а хамлет
фашист... Вот так гад навязался на нашу голову...
– М-ма-ма, –
опоясанный несколько раз кнутом с наконечником, только и мог выговорить
паренек.
За мальчонку встряли
мужики: был сад и пруд, и сотки совхозные акционированы, акции же скупил у
совхозных некто, будто бы голландец. В лицо его знал только Фома Кукин, нанятый
им и ему же прислуживающий, в понимании же осиновских, и сад, и пруд как были,
так и остались ничьи. И картофельное поле, за лещугой, за тальником у оврага –
тоже. Мужики собрались, выпили самогону из грелки, что выставила им за Фильку
Полина, и попросила:
– Только не убивайте,
а то посажают еще за этот дерьма кусок.
Мужики выпили для
куражу, стащили Фому с коня, били без зла, но долго. Таскали по базу, по телячьему
навозу, в камень усохшему, раздирающему живот и бедра, волочили по битому,
огранистому, как алмаз, лизуну – крупным камням соли. Потом объявили:
– Ну все, барский
прислужник, теперь леворюцию тебе сделаем: сказним начисто.
– Это как?
– Как? Ты газеты
читаешь? Радио слушаешь? – всем действом взялся заправлять Колька Пряхин, из деревенских,
самый отчаянный. – Уже объявлено от правительства: прихватизацию прекратить,
всем незаконным владельцам все народу вертать, а кто добром имушество не сдает –
того исказнить... По древнему и проверенному способу: посадить на кол. Как
жука навозного.
– Мы тут
посоветовались. Есть такое мнение. Словом, хана тебе, рыжий. А потому мы сейчас
еще выпьем и. того, акт проведем. Акт полноценного вандализьму и торжества
законности: на дрючок тебя того, задрючим. А ты не бойся, не ты первый, не ты
последний, по длинной жердине съезжаешь вниз оттак от, задом на вострую, хлоп,
и готово, и всего делов, потому как есть ты незаконный объездчик, давно уже лютый
и самовольный. Лицо, не выбранное нами и нами не одобренное, к тому же как это,
званием-то, ну как его, как?
– Как есть:
самовольный собственник. И нацмен еще – тоже. Пусть так своему хозяину и
передаст, если жив останется.
– Нет. Не то. А, во!
Экспроприация экспроприаторов, то бишь приватизация приватизаторов. За большой
хапок – всем буржуям хлопок!
Мужики принесли
осиновый кол здоровенный и тяжелый, и в цвет холодного свинца... Старательно и
долго затесывали его на колоде, из которой на другом ее конце пили быки, пуская
долгую хрустальную слюну, ничуть не боясь отмашек топорищем, а глядя на Фому
долгим и печальным взглядом, пили воду. Фома тоже смотрел. Потом разлили из
грелки воняющий резиной самогон, сказали поминальный по объездчику тост:
– Ну, братцы, за Фому,
земля ему пухом.
Но этого тоста Фома
уже не слышал. Перегрызши украдкой кожаные подносившиеся уже путы, он был
таков. И не видел, как хохотали ему вослед мужики.
На другой день явился
милиционер, собрал всех участников самосуда, «учиненного давеча над доверенным
лицом», в хате и заставлял подписать протокол. Мужики были с похмелья, но категоричны,
они так и не поняли, что протокол составлен на них, заявили:
– За него, за рыжего
педераста, ничего подписывать не станем. Пусть его сажают, товарищ сержант.
Хоть убей. Этот прыщ – убийца и мучитель.
– Да постойте, да
погодите, дураки вы, ведь вам того, вам же лучше, если это самое, если
добровольное признание и так дальше. Явку с повинной вам оформим. Подпишите, и
так дальше, это все. А то владелец посадит вас за издевательства над
подчиненным и совершенный самосуд с непосредственным покушением на жизнь
потерпевшего, и так дальше. Может, еще на административное правонарушение, на
мирового напишем. И это самое. Выйдете чистыми. Ну там пятнадцать суток или
штраф, и так дальше.
– Он мальчишку чуть не
укокошил, фашист.
– А где побои, кто
докажет теперь? – не унимался милиционер. – Вы их зафиксировали? То, что немой
стал, это еще не факт, немым и притвориться возможно.
– Да ты чё, Иваныч
(перешли на «ты» мужики), против нас, что ли, бумагу-то оперу пишешь? –
догадались наконец они. – Ты что, не русский, не наш?
– Про вас, архаровцы,
про вас. Опера про... сколько вас? Раз, два, пятеро – вот про пятерых белых
лебедей. И срок, наверно, вам на пятерку намотает хозяин, и так дальше. Вы хоть
знаете, кому паи-то продали, архаровцы? Я вам по секрету скажу, когда я сюда
собирался, он мне так и сказал: денег не пожалею, порву на части эти грязные
вонючие онучи.
Тут у милиционера
зажужжал мобильник, он вытянулся в струну:
– Да, есть, так точно...
Все понял. Отказались. Все пятеро, доставим... это самое. Все, мужики, – он
щелкнул замком портфеля и молча ушел.
Вечером того же дня
приехал, качаясь на рессорах, воронок с решетками в окне задней двери и
мужиков, всех пятерых, увезли. Фоме и вовсе словно руки развязали. Объездчик не
унимался. Неутомимо гонялся он за бабами, сгоняя их с бахчей и огородов.
Наезжал и на мужиков. Пускал жеребца давить.
– Что?! – орал он
тогда, правя коня на человека, словно норовя затоптать. – Что, взяли Фому
Кукина? Поняли, чья правда теперь? У, стопчу!.. В пока, в духа.
– Ишь, вольный казак,
руки назад. Теперь ему и вовсе нечего бояться.
– Казак палестинский!
– Погоди, – отвечали
ему, – Колян Пряхин выйдет или сбежит, он отчаянный, все припомнит. Не
сдобровать тогда тебе, иуде.
– Оттель не сбежишь.
Набось очухались, поняли, с кем связались, да поздно. Близок локоть, да не
укусишь. Вона! Колькой пугать, сгниет на руднике. Нынче новая власть, не про
вас, голодранцев, вона!
Говорили вполслуха, из
уст в уста, что фермер платил ему «баксами», или «гринами», – а это не наши
деньги, не русские, навроде сребреников, только гораздо еще дороже и грязней.
Давал и фураж на лошадь. Солярку в центральной усадьбе сливал Фома и тоже
продавал сам. Он норовил поиметь и с этого: загонял соляру частникам,
скупившим совхозные трактора. Но «натуру» нужно было еще суметь продать. А
продавать он не умел и не любил, горячился, дерзил покупателю.
– Жаден, – говорили о
нем. – Набаловал его хозяин.
– Хвалился вчера.
Показывал доллары, эти самые.
– Ну шо? Лучше наших
рублев?
– Кой там лучше,
ничего хорошего, голенькие какие-то денежки. Морды на них президентов ихних.
За горло шарфами перетянуты, удавленники. Удавлены, а улыбаются. В руки взять
срам.
– Ну?!
– А на другой стороне
пирамида и глаз.
– И шо, прямо это,
висят, удавленники-то? На пирамиде, без глаз?
– Зачем висят? Сидят.
Смотрят. Живые ешшо. И глаз в каком-то сиянии, все видит.
Смеялись:
– Да ты хорошо
смотрела у него, у Фомы-то? Может, это хрен, а не глаз, на той пирамиде-то?
Хрен у Хеопса? У нас деньги – вот это деньги. Три кобылы на сотенной – и
понесли... Не остановишь... А то – глаз. Нашел чем удивить. А был и вовсе
Ленин.
– Ох, бабы. Зачем мы
только паи свои дали оттяпать. Теперь на нашем на русском поле командиром
какой-то Херр голландский через подставное лицо, веревки с нас вьет – а может
быть, и вот через того же Фому, сживет нас со свету совсем. Не зря же он так
лют. Не просто же так. Капитал нажить ему пожелалось.
– Да мы и не продавали
свои паи, и не сдавали. Ай не помнишь? Вызвали в собес: подпиши вот здесь
бумагу, вторую пенсию получать будешь. Ну и подписали. Выдали еще раз одну пенсию,
и хана.
– А Фома-то так и говорит:
«Жив не буду, а капитал сколочу, все мне в ноги упадете. Поклонитесь». А уж
лют-то рыжий, ну фриц, как есть фриц.
– Почему же не бьемся
за паи-то? Чтоб назад вернуть.
– А налог-то какой за
них платить, налог двадцать тыщ за гектар, откуда деньжищи такие, кормиться
как? Не всем же пенсии дают. Хоть крохи, но деньги. А то ведь, было, и хлеба не
купишь.
– А Фома лют! На то и
хозяин. Не мы, дураки. Сразу нашел, ирод, кому продаться. Таких-то ретивых днем
с огнем не сыскать.
– Плохо кончит.
– Плохо. Родную мать
продаст. Не пощадил и племянника, кнутовищем огрел. Прикажут, так за деньги и
до смерти запорет, как отца своего родного заморил.
Погубленного отца ему,
Фоме Кукину, часто вспоминали: таковы сельские. Отца он выгнал и вовсе
незаконно из дома. Фома, казалось, и вообще жил по каким-то своим законам,
внезапно откуда-то ставшим известными ему, козырял этим якобы знанием: «А ты
знаешь закон Конституции, статья семнадцатая?.. Не знаешь!» или «А ты знаешь,
что такое закон? Закон – это воля народа!» А договорившись о чем-то, кричал,
ударив по рукам: «Ну все, закон, закон!»
Отца своего Фома
поставил наемным сторожем на картофельном поле. И тот жил в шалаше из ивовых
прутьев и лапника, во всякую погоду, и весной и летом – до поздней осени, до
заморозков. Однажды он так простыл под осенними дождями, что у него при его
больном сердце сделался припадок и отекли ноги. Он стонал от этих болей,
едва-едва передвигаясь, добрел до дому и повалился в сенях. Приехал Фома и с
самым злым матом, увидев его, валяющегося на соломенном тюфячке (со страха и с
сырости отец побоялся сразу забраться на печь, обсохнуть), толкая отца в сапог
кнутовищем, сказал:
– Ты что же, так и
бросил поле, спать будешь? А что как разворуют, чем отдавать? Или мне там
сидеть, все бросить... Как бы не так, – от молчания отца он ярился все более. –
Сейчас же на место, в шалаш. И чтобы больше такого не было.
Увезли старика назад,
а через день проезжие рыбаки-охотники на верховую и водную птицу опять привезли
его с жалости: помирает старик. Фомы дома не было. Они натопили печь, выпили,
что было, поднесли и старику для сугрева. На дворе все больше разыгрывалась
непогода.
– Как чайку хотца, –
едва молвил старик.
Рыбаки напоили его и
чаем, натерли водкой, дивясь на то, как отекли ноги старика, и на жестокость
сына, бросившего старика в чистом поле. Словно дождавшись, пока уедут чужие,
опять появился Фома. С порога он приказал идти отцу в сени, словно озверев, но
старик не мог встать. Тогда он вытащил его волоком. Молча пил чай с сахаром, со
вкусом, кричал что-то в сени отцу, точно приказчик.
– Да как тебе в
душу-то идет, чай-то, – осмелев от отчаяния, заговорила мать, – ведь помрет
отец-то.
Она хотела помочь и
перевести мужа на постель в горнице. Старик, кряхтя от боли, еле передвигал
ногами, просил помочь ему встать, хотел пройти лечь рядом в свою комнату, как
вдруг Фома, словно очнувшись от оцепенения, заорал:
– Ишь чего еще не
придумала, в горницу! В сени его, назад, да чтоб завтра и на поле!
Ничего не сказал отец,
свели его опять в сени на промозглый и отсыревший камышовый тюфяк, на
деревянную древнюю койку, на сквозняки. Часов в пять Фома пошел уже будить его
на поле, старик был мертв. В доме, принадлежавшем отцу, выстроенном отцом,
Фома остался вполне хозяином.
Под стать Фоме была и
его супружница, тоже низкорослая, остроязыкая, как змея, жадно курящая сигарету
за сигаретой, проворная, как ощенившаяся волчица, торговавшая в сельмаге разведенным
спиртом из-под полы. И часто, купив у нее бутылку разведенного, «буреного»
спирта, в шутку дразнили ее: «Ну как спирт? «Закон»?» И передразнивали с
гонором Фомы: «Закон, закон. Смотри, потравишь – посодют, не посмотрят, что муж
на миллиардера спину гнет. Законно! Закон – это воля народа! Воля народа!»
– Сделаю капитал! –
имел в виду эти подначки сельцовских Фома Кукин. – Сделаю капитал, они мне все
тогда, облокотились. Сделаю – и укачу из этих мест.
Не принимала всерьез,
близко к сердцу подначек и жена Фомы, она еще бойчей приторговывала левым
бесланским спиртом, который покупала в достатке и вовсе за бесценок с далекого
кавказского электролизного завода через воровавших этот вонючий яд – обходчиков,
железнодорожников. Она разводила спирт один к трем. Спирт поднимался к
горлышку, нагревал бутылку, растворяясь в воде, мутнел на короткое время. Она
ждала конца реакции и, стараясь не тряхнуть, зная, что весь градус теперь
вверху, осторожно ставила на полку под прилавком. Бутылка получалась втрое
дешевле заводской «Касимовской» или «Шацкой». Попробовав же «водки от Шурки»,
глотнув сверху первака, почти живого спирта, мужики восторженно и
удовлетворенно замирали, пережидали, когда потухнет в гортани душный пламень
электролизной отравы, чтобы вдохнуть воздуха и поблагодарить Шурку.
Приложившись единожды, но неоднократно, они не понимали и не знали, что на дне
бутылки была едва ли не простая вода, их растаскивало и валило от табака и
первача.
Под конец торгового
дня продавец и вовсе запирала двери магазина, расставляла и наливала в
пластиковые стаканы, превращая тем самым сельцовский магазин в кружало, в
кабак. Навар от таких крутых поворотов в торговле был немал и вполне надежен:
продукты из центра возили коммерсанты неохотно, а зимой на санях трактором так
и вовсе, водку – и того реже. А то и так бывало, что привезут, а на посевную
председатель прикроет продажу. Да еще и налог, и лицензию, да еще взятки
чиновникам в центре заплати. И отступилась торговая нечисть. Шурка же тут как
тут. Церемония же с бражкой, при выгоне самогона, сельцовским сильно
поднадоела, утратила корни за двадцать лет «нового нэпа». От самогоноварения
отвыкли. К тому же не у многих хватало выдержки дождаться, когда бражка
поспеет, постоит и осядет. Ее «выпивали так» – еще до полной готовки к
самогоноварению. «Кой гнать, она вся уже», – говорили. Проще было украсть и продать
чего ни попадя: снять кабель, выкрасть в домах, брошенных на зимовку,
какой-нибудь скарб, алюминиевые тазы, ложки – все шло в дело... Ценой риска и
удачи выручить какую-то мелочь, а Шурка уже ждала, наливала.
Слава объездчика и его
супружницы стала со временем так велика, что однажды Шурка попала под «рубоп»,
наведенный по зависти ли, по обиде ли измученных жен, из мести за вечно пьяных
мужей. Но и тут Шурка вышла сухой из воды, хвоста не замочив. Деревенские с тех
пор и вовсе разуверились найти правду.
– Шурупчик! – раззявив
большой рот с гнилыми зубами и красными деснами, раздувая не в меру широкие
ноздри и выпучивая глаза, кричал, слезая с кобылы, объездчик во хмелю. –
Шурупчик, а ты мне, похоже, седьмую девку швырнешь? Ишь, живот-то какой вона –
вострый?..
А Шурка обрывала Фому,
дерзко и зло отчеканивая, вполне резонно, впрочем:
– Что стругал, то и
настругал. Какой ложился, такой и родился.
Дерзкий ответ жены
приводил Фому в веселое состояние духа, он обнимал ее за талию и шептал горячо в
ухо, возможно милее, продолжая кураж. Шепелявя и приникая к жене, словно от
этих его разговоров и впрямь что-то зависело:
– Неужели впрямь
седьмую девку родишь?
– Да говорю же тебе:
не знаю!
– То я знаю!.. Сходи
на аборт, – отчаянно и как бы раздумывая настаивал Фома.
– Ходила, да поздно
хватилась, – отвечала Шура, прижав руки к большому, тыквой, животу. – И за
доллары не берутся, срок вышел.
– П-почему?
– Можно в кровях
утонуть.
– Думаешь. Тебя
жалеют? Суда боятся!
– Или Бога.
– Пога? Какого такого
Пога? – взвился Фома. – А где он, П-пог? Это теперь моду завели: куда ни плюнь –
все погомольцы, плюнь – в погомольца попадешь! Все за свечки схватились, –
ворочая белесыми зрачками, шипел Фома. – Может, и ты его поисся?
– Кого?
– Пога, Пога!
И он попадал этим вопросом
в самую точку, доставал до сердца, как ножом. И всю ночь Шурупчик при храпящем
Фоме ворочалась с боку на бок, чутко прислушивалась к вспуганному голубиному какому-то
шевелению в своем чреве, думала: «Вот, говорят, ребенок во чреве все слышит.
Тоже слышит, как и его судьба решается, ишь, ишь, закрутился, прямо
веретено...» И она затаила глубокую думу о нем, замолчала.
– Сами сделаем то, что
надо, – вдруг заявил Фома.
Шура после бессонной
ночи так и обомлела:
– Не дам, поздно!
– Ты с ума сошла, в
пога! В веру! – орал Фома, но Шура была непоколебима и непреклонна и осадила
его с такой силой и яростью, на которую способна была только затравленная
волчица за своего щенка-волчонка:
– Только тронь!
Фома зашипел:
– Я знаю как, меня
научили. Знахарке отслюнявил полста зелени. Трава крушина, баня. Взвар – и
вона – выгоним за милую душу. Надо только потом помять чуток, закопать послед и
все, за милую душу! Все! Закон!
– Ну, если так, –
вдруг ослабла и присмирела жена... – Делай. Я помогать стану.
Шура и впрямь терпела
отчаянно, через пьяный полуобморок, как сквозь сон (чем опоил он ее, уж не
мухомором ли?), подсказывала, как надо мять, куда ушел ребенок, да скрипела
зубами от нестерпимой боли. Фома работал, «делал», как заправский массажист
или как если бы все это действо приносило ему удовольствие. Лишить же жизни
человека, даже и такого крохотного, оказалось вовсе не таким простым делом, как
предполагали они. С первой парилки ничего не вышло. И они готовы были через
два дня ко второй, как вдруг узнали о капитале. Материнском капитале, от самого
Президента!
– Триста сем тыщ!
Триста тыщ, Шурупчик, чуть с тобой не выкинули. Чуть в землю не закопали. Вот
дураки-то, – он крутил газетой у ее носа. – На-ка вот, читай! В райцентре
дали.
Но все оказалось куда
сложнее. Капитал нельзя было ни взять, ни пустить в дело. И вообще пощупать
было нельзя. Только переносить с книжки на книжку, из банка в банк. Нельзя
было даже и построиться или достроить раньше начатое. «А вот разве только на
учебу, когда ребенок взрослый будет, – сказали Фоме в банке, когда он пытал
кассира. – Или только на воспитание, да и то не ранее чем через три года».
– Вот, – искренне
изумлялся Фома, – надо же, что придумали. Вроде и есть, а на, возьми. Ан, нет,
не возьмешь. И нет, никак.
Но попытки вытравить
ребенка решено было оставить. Второй попытки не случилось, и ребенок родился.
Родился он все-таки недоношенным, выскочил прямо на ходу в «полотьё», «словно
выронила», – как говорила Шурка. Она полола свеклу и родила прямо в огороде.
Мальчик – со скрюченными руками, да и ноги не сгибались. Ходить он не мог и
впоследствии без костылей, ползал. Сестренки возили брата в самодельной
коляске, норовя провезти глухими улочками, вдоль оврага или огородами:
ребятишки, увидев издалека колясочников, разбегались по сторонам, кидали в
сестер комьями сухой земли, дразнили. Взрослые же порой останавливались в
оцепенении, крестились и шептали молитвы, глядя вослед жалким детям Фомы,
провожая взглядом урода...
Был он и впрямь
страшен, Павлик: перекошенное лицо его с большой оскаленной волчьей пастью и
заячьей двойной губой, всегда открытой и мокрой, – лицо выражало то ли
недоумение, то ли озлобленность, а несоразмерная с телом большая голова качалась
на тонкой шее, угрожая свалить мальчонку с коляски.
Сестры не любили
возить братца: тот мочился на прогулке, и особенно почему-то в знойные летние
дни, когда Павлушу катали в распашонке и коротких штанишках, которые он нарочно
подворачивал еще выше, вытягивал ноги, ворошась и показывая прохожим
уродливые, в струпьях щиколотки и запястья, поросшие редкими рыжими волосами.
На время прогулки
Павлуши прохожие исчезали. Зрелище и впрямь было трудное: мальчишка, почти
нагой, в обносках, к тому же нахватавшийся от родителей бранных слов – сыпал
ими как орехами. Он был как бы физическим воплощением души своего отца Фомы.
Орал на прохожих и проезжих с коляски, убогий и жалкий:
– Ну, что смотрите, в
Пока, в веру! Ну! Глаза поломаете!
И было во всем облике
этого уродца, в его брани что-то сверхъестественное, непонятное. Почти
мистическое, ведь убогие, – они какие? «У Бога», где-то рядышком, под крылом,
Его милостью. А этот ревет как звереныш. Страшно.
Доказывали Фоме,
предупреждали его о сыне:
– Это тебе, Фома,
наказание, убогий – то за неверие твое и слова паршивые, хульные. И еще за то,
что ты, Фома, палец в ребро Спасителю вложить пожелал, а без того и не
веровал, и не веришь.
– Палец? Какой такой
палец? – не понимал никогда не читавший Нового Завета Фома. – И куда? В ребра.
Та-а, я бы их выдрал! Во сколько горя испытал.
– От зависти угораешь,
– упрекали. – Ты и не Фома вовсе.
– А кто? Кто я?
– Каин!
И когда ему
посоветовали прочесть это место в Святом Писании – место, где явлена была воля
вознесшегося Бога, он, отец урода, Фома Кукин, и впрямь затаил неожиданную и
глубочайшую злобу. Злобу и зависть нешуточную. В самом деле, если есть он,
Пок, то почему одним всё, полными пригоршнями, другому – ничего, кроме горечи
слез. И, наконец, уже вовсе нешуточный вопрос: рождался-то парень, Павлуша. Не
седьмая девка. Почему же он, великий и всемогущий Пок, не подсказал, не поддержал
в трудную минуту? Значит, Он и виновен, Он сам, а вовсе не Фома... Он, Пок.
Всячески подзадоривал
он сына, с затаенной, глубинной обидой на уродство мстить Поку: рычать
по-волчьи, ворчать на иконостас, занавешенный сборчатой занавеской с узором,
доставшийся от родителей. Шурка же, в отсутствие которой проходили все эти
«церемонии», и не подозревала ни о чем, хотя какое-то настороженное, особое
отношение домашних к иконостасу втайне отмечала. Иногда под предлогом уборки к
большим праздникам и вовсе порой снимала иконы, заворачивала в чистые простыни
и прятала от Фомы – в особенности те из икон, которые тот в пьяном кураже
грозился сжечь и даже подпаливал напоказ занавеску в красном углу. «Дом
спалишь. Это тебе не шутка».
– Оставь, язва, курва,
межедворка! – орал уродец с тачки матери. – Не твое это, значит, и не трогай!
– А чье же? – Шура
цепенела от неожиданности.
– Наше! – был ответ.
– Уберу в чулан от вас
от греха, антихристы.
– Не трог, пусть
висят: Бог не Ивашка, видит, кому тяжко.
– Молодец, Павлуша! За
словом в карман не лезешь. Авось, и себя в обиду не дашь, и меня на старость
защитишь. Ничего не бойся! Гляди на меня, делай как я, закон! Ты первый,
первей всех. Помни мое! Крой всех и вся. А уж я за тебя горло порву любому!
Жми на страх: кого боятся, того уважают. Вот он, арапник-то, всегда при мне! –
и сунул тайком сыну нож с выкидным лезвием под кнопкой с наборной ручкой. Тот ощерился, ощутив
отглянцованную до телесной мягкости ручку финки, сделанную в недалеких
мордовских лагерях, – нож с наборной ручкой из цветного плексигласа.
Повзрослев и узнав,
что уродство его – от Пока, что Пок наказал его, невинным еще младенцем,
матерился Павлуша самыми непроизносимыми скверными словами, брызжа слюной с
такой отчаянностью и остервенелостью, что и отец, и мать тотчас затаивались,
чувствовали себя душегубами.
– А Бог не микишка,
зрит, на ком шишка, – говорили в деревне. – Это ведь Он наказал, через отца с
матерью. «До седьмого колена поражу» – сказано.
Но подлинное наказание
было еще впереди. И вот как случилось: Шура, торговавшая дешевым спиртом,
исподволь пристрастилась и сама к зелью – травила с горя и ради прибыли и
себя, и посетителей. И однажды в канун праздников мучеников Севастийских
хватила стакан, легла на ночь, да и не встала. Умерла.
– Шурупчик! – кричал
объездчик в каком-то невиданном остервенении. – Шурупчик! Встань, встань.
Поднимись, родная! Да ты что молчишь-то, ай оглохла?.. Ой, встань-подымись, нет
силушки на тебя смотреть мне, горемыке...
– Ну, будь орать-то...
– просто и буднично оборвал его Павлик. – Что ты блажишь как баба. Померла и
померла, мол, закопаем.
Пришли деревенские
плакиды. Волоча Нюраху за ноги, стали обмывать, болтали:
– Сгорела и впрямь как
порох. Видно, и в самом деле, спирт-то – яд.
– Да ведь ты видишь
еще какое дело: баба. А бабы – они завсегда в это дело легче мужика вружаются...
И мрут чаще, не для бабьего организму спирт-то.
Объездчик слушал и не
понимал, на земле он или на небе, или уже в аду, так горько и больно на душе
было впервые.
– И ты своей смертью
не помрешь, – мрачно и трагично пригрозил отцу Пашка-Бутуз из темного угла
прохладной комнаты, – теперь и ты собирайся следом. Издохнешь в одночасье.
Туда тебе и дорога, живодеру. Очумел ты давно, и черт тебя ждет, лапы потирает.
– Куда собирайся? Это
ты отцу? Ах ты босявка...
– Не вращай
глазами-то, не вращай. Сестры тебя боятся, а я не боюсь: вот они, костыли-то. И
нож со мной. Или крысиного яда всыплю, или того, запорю: не обижай никого зря.
Злодей.
– Я добро стерегу от
воров, – пытался оправдаться Фома, струхнув, – меня все боятся. Не тебе чета.
Ты что, сынка, ай приснилось чего?
– Приснилось! Мертвым
ты приснился, вот что, аспид, изувер, – все больше заводился Павлик. – Ты
стеречь – стереги. А людей не забижай, не трогай. Она и мать-то не без твоей
помощи ушла. Знаю. Ты за что Вадика Новикова чуть до смерти не засек? За три
мешка картошки голландской, да еще с того года? А Стеню Копейку, старую женщину
испугал до полусмерти за огурец с бахчей? А меня уродом сделал, ирод, зачем?
Пог, Пог. На Бога сослался, смотри. Поди-ка, кабы не детские деньги, что
«капиталом» называешь, так и вовсе бы мне не жить, в животе сгноили? Ай не
так?.. Ты да мамаша – одного поля ягоды.
Тут у Кукина возникла
странная и страшная мысль, догадка по смерти жены. Но он столь же торопливо и
не давая ей разрастись, как облаку, тихо и, стараясь быть сдержаннее, спросил:
– Это кто тебе такое
наврал? Откуда ты взял-то, Павлуша?
– Никто, сам знаю!
– Ты не можешь мне
угрожать! – едва не плакал от постигших несчастий и упреков Фома. – Виноваты ли
мы ай нет с твоей матерью – не тебе судить. Яйца курицу не учат... А ты не можешь мне такие слова, поскольку.
– А деньги мои где?
Куда вы их дели? – не унимался Павел.
– Какие деньги? Были,
да быльем унесло.
– Десять тысяч баксов –
быльем?.. Врешь, не возьмешь.
Перепалка впервые чуть
не кончилась дракой, Пашка скрюченными руками схватил костыль и, прыгая на
больных ногах, кидался на отца. Девчонки орали в голос.
– Ты? На отца? –
оскалясь, кричал Фома и всех пятерых девчонок и Павла драл кнутом, покрикивая.
– Цыц! Мокрохвостые! Ишь, на отца коситесь!
Старуха, мать Фомы, не
выдержала, и, все помня смерть мужа, отца Фомы, посоветовала:
– Фома, сходи. Сходи в
церкву-то. Сходи, не будь дураком-то, не будь. Покайся! Да лбом-то к паперти. К
паперти да к иконам. Это тебе все за отца отмщение и за Бога поругание. А Бог
поругаем не бывает, вот и мучаешься, эвон трясет-то тебя как! Вот и сын супротив
тебя. А ведь сказано: «Хула на Духа святого не простится ни в этом мире, ни в
следующем!»
Фома с легкостью, как
игру, воспринял этот совет и однажды пришел к заутрени. Священник в начале
исповеди, обильно потея, в благостном состоянии принимая Фому, то и дело
вытирая платочком пот, долго слушал его и чем дольше слушал, тем реже кивал и
менялся в лице. Потом и вовсе кивать перестал. Сказал только грустно и
отрешенно: «Целуй Евангелие и крест». Фома поцеловал.
После исповеди
священник сел на лавочку и долго сидел так, не шелохнувшись, обхватив голову
руками, как если бы голова стала невыносимо тяжела. До причастия он не
допустил Фому: тот не знал, что нельзя ни пить, ни есть до Чаши, и плотно
позавтракал до церкви.
Какая-то прихожанка
зашипела на Фому, что он протоптал по дорожке к аналою, тот огрызнулся, и
священник видел, как, не выстояв после «Отче наш» и пяти минут, объездчик
вышел из храма вон, жадно закурил на крыльце.
Бабьим летом, в
середине сентября, освободившись от дел, Фома Кукин каждый год уходил в отпуск.
Так и в том году, когда опустели поля, сады и огороды, по первой поземке и
получив задаток вперед на лето от фермера (да и окрестные «частники» скинулись
ему за подмогу – заплатили полностью долги, и долларами, и рублями).
– Голландец, –
подначивали Фому сельцовские, – ты теперь богатый, свое дело открывай. Мечтал
же, все баял...
Шутили, смеясь, Фома
поскрипывал зубами, но, радуясь, считал и пересчитывал крупную сумму. Говорил
себе: «Держись, Фома! Небось, теперь прижмешь хвост голодрани...»
И когда шагал он
деревенской улицей гоголем, тайком пощупывая и потрагивая пачку денег в
кармане: мечтал он купить жеребца или молодую кобылку, – решил открыть
конезавод породистых лошадей, чистых и дорогих пород. Он давно мечту берег и нежил,
вынашивал и обмусоливал – овладеть этакой красавицей или красавцем, для
начала, в свое владение, и под себя – престижнее и скорее, и похваляться будет
чем. Он даже зажмурился от предощущения большого счастья, медленно, облаком, но
явно и зримо наплывающего, наваливающегося на него: вот он конезаводчик, вот
он выводит племя. Редчайшее, как сегодня – русские борзые, и вот все
конезаводчики едут к нему. Пишут ему. Кланяются и несут деньги. Деньги за
жеребят. Вот он и капитал. И закрывая глаза, он уже видел себя верхом (или, как
говаривают по деревням, «верхами»), проезжающим по Осиновке этаким аллюром,
по-цирковому, когда лошадь идет медленно, выкидывая коленца, и этак прелестно,
из стороны в сторону, из стороны в сторону. Чтобы все рты разинули. «Сенами»
он запасся заблаговременно, прикупил у фермеров и овсеца. До мечты осталось
рукой подать.
На ярмарках шли торги
за торгами. Фома не пропускал ни одного. Присматривал хорошего жеребчика,
ходил он и по заводам, и к частникам, с посошком, прикидываясь
бедняком-любителем. Больше на любовь к лошадям упирал. Частники, из тех, что
владели хорошей породой, – те как-то понимали его, сочувствовали. Но цены
гнули громадные, объясняя жадность свою вовсе не корыстолюбием, а так, мол,
лошадей – единицы, да еще таких. «Ну подумай, кто же на торгу отдаст задешево,
когда торгуешь единственным. Просто из любви к породе даже».
И вот попалась ему
молодая буланая, еще не объезженная кобылка. Потянула как баба на себя, повела
и повела, потерял Фома голову. Ходит Фома возле нее кругами. Вроде и не на нее
смотрит, вид делает, что не на нее, а сердце не на месте. Не колдунья и не
ворожея – кобыла, а окольцевала Фому. Осиротела она по чистой случайности:
прогорел и разорился немолодой, в годах уже фермер: болячки достали его,
инвалида, а детей то ли нет, то ли не едут, бросили, деревенскими грязями
брезгуют. Пораспродал он все нажитое не то что с молотка, а и впрямь – за
безделицу и сгоряча, кобылку же берег до последнего. Сидел косматый. Больной.
Дурно и тяжело предсмертно пахнущий на подушках. И громко и трагически
спрашивал входящих:
– А тебе чего, поди
прочь!
– Гнедая. За сколь
отдашь?
– Гнедая? – сразу же
ожил косматый и погрустнел. – Не отдам!
Но Фома был стреляный
воробей, испытанный покупщик. Вынул четверть спирту и начал разговор. И
хозяин, даже и сидящий среди подушек, больной, но все еще высокий, ожил.
Заросший, как древний иудейский пророк, медленно и истово положил длинные
кресты страшными искалеченными подагрой пальцами, молвил: «Се, остается дом
твой пуст...»
Слова эти были и вовсе
непонятны Фоме, но настолько страшны и величественны, что он пал на колени
перед хозяином. Но уже за околицей, вводя в телегу непослушную гнедую,
радовался за себя, за свою ловкость и артистизм притворства. И пошло-поехало:
там вятки или орловки – запил, спустил все после больших неудач помещик из
«новых» (курского и владимирского тяжеловоза Фома нашел у него) – он тут как
тут. Фома подливал ему, всклокоченному, немытому, но все еще пытавшемуся
держать фасон – оно так у военных.
Рассказывал тревожно:
– Так вот, Фома.
Пришли назад паи свои просить. Сельские-то, наши. Стали толпой под крыльцом,
как встарь нам показывали в фильмах. Вышел и я: «Чего вам?» – «Верни паи». «А
вот, видали?». Молчат. Хлопнул я дверью, ушел, и вдруг так за душу схватило:
это кому же я дулю показал? Этим больным старикам, что всю жизнь навоз по этой
земле, по этим паям ворочали, им, у которых поколения здесь лежат. В этой
земле, навеки. И вот, видишь, запил. Запил вглухую, хоть святых выноси.
Фома слушал да
подливал, кивал и все же свел со двора и тяжеловоза без жалости.
Впоследствии, в минуты
уединения, хвалил себя: «Молодец». Но больше всего радовала кобылка, высокая,
тонконогая, с узлами коленок, огнеглазая, с густой гривой волной и длинными
ногами. Осиновские мужики зачастили на смотрины необъезженной красавицы. Фома
допускал не всех: только нужных, весомых, с которыми стоило и вообще дружбу
водить. Пытались тронуть под пьяный гогот жесткую непослушную гриву, пышную,
желтую, как пена после катера у берега на Оке. Пригнал он ее в недоуздке, парой
со своей гнедой, запряженной в телегу. Непокорная кобылка бежала легко, играя. Волна гривы лежала
набок, высокая холка. Жмурились, цокали языками. Буланая красавица зло косилась на зевак,
норовила укусить, вставала свечой на задние ноги.
– Ишь, с норовом!
– О-огонь! – заикаясь,
подтверждал Фома. – Что не по ней, разобьет... Задними бьет. Жерди с база напрочь
выбивает, навылет. А в них гвоздь – двухсотка. Орловка, одно слово. Огонь! Ишь,
вся бела, аки снег. А жеребенком-то была – черна да с очками на глазах.
– Да разве так
бывает? Чтобы из масти в масть?
– Это у них бывает, у
орловских.
Фома называл ее
Милкой. Узду надевал как фату. Долго он выбирал эту узду, чтоб была достойна,
из наборных ремней крепкой мягкой кожи, надежную, как портупея генерала, да с
бляшками, с кольцами, как для цыганки. Натягивал под челку, на лоб, заправлял
силком мундштук в зубы, который Милка никак не хотела брать. Не желала
покоряться. Заправил, чуть зубы не выворотил.
– Ишь, – с ласковой
злостью говорил Фома. – А побрякушки, колокольцы-то любишь, как звенят. Что,
любишь? Подарки, сладенькое. Вот жеребца тебе подведу, жди. На муки твои
полюбуюсь.
Колокольцы и впрямь
звенели волшебно-тонко при малейшем движении.
На покорение Милки под
седло собралась вся деревня, как на представление. Собрались за селом на
выгоне. Мужики, бабы, ребятишки. Впрочем, полагалось запрячь в повозку, да
нагрузить потяжелее, да дать кнута. Но Фома давно придумал держать Милку
исключительно как верховую. Да и была какая-то тайная надежда, что и она,
Милка, тайно уже приняла его за кормильца, хозяина. Примет и за седока.
Фома сначала все гонял
кобылу, щелкая кнутом, крутил по базу на длинной веревке, постреливал кнутом,
сыпал прибаутками. Рыжие, копной, волосы его горели огнем на ярком солнце
разогревшего землю бабьего лета. Войдя в раж, оседлав Милку, верхом он
нетерпеливо дергал на себя узду, яро хлестал по бокам хлыстом острой узды.
Милка-Колдунья заржала – словно захохотала, с эхом в гулких обосененных полях,
да так, что мороз пошел по коже.
– Ты с ей поласковей, –
советовали мужики, – она хоть и кобыла, а тоже того, женского полу, ихнего, а
оне подход любят.
– Эва, черемониться!
Фома, поддай ей, курве! Ишь, ишь. Заплясала, руку почувствовала, эдак, эдак.
Тверже ее держи, бабы – они силу любят!
– И седло полегше
надень. А то бока-то намнешь ей. Дорогой такой....
– И по мне что баба,
что кобыла, одного роду-племени. Не таких объезживал...
– Мотри, Фомка, знать,
понесет сейчас. Не зевай, Фома, на то ярмарка.
Кобыла рванула и
грациозно вдруг пошла по кругу, заставляя людей отступать в страхе и в
восхищении, словно все еще была она на длинной веревке, стелила хвостом,
стригла ушами.
– О-о, пока-мать,
закоо-онно. Закон! – только и успел крикнуть Фома, Милка вдруг встала свечой,
пугливо кинулась в сторону, рысью прошлась вдоль загорожки, заведенная от
ударов хлыстом, и вдруг с легкостью, как на крыльях, перелетела через жерди
база – взяла высокий барьер. Фома точно куль с овсом – вывалился из седла,
повис на узде, да и ту бросил. А кобыла так пошла и пошла крупной рысью,
заметно припадая на правую заднюю ногу.
Ее отловили только к
вечеру, и то с хитростью, с уловкой: кузнец Терентий умело ржал наподобие
жеребца, пролез по кустам всю округу, ждал и слушал, где отзовется.
Сашка Пряхин – малый
оторви и брось – подошел к ней. Резко схватил под уздцы, с опаской, но не боясь
на вид, вел на баз, повторяя от волнения и страха одно и то же: «Узда
набороная, лошадь задорная».
– Чего-то хромает она,
Фома, ты не дрейфь, я только гляну. На-ка, на. Подержи, что, сильно? Зашибся?
Дайте клещи, что-то подкова стучит.
– Дайте клещи. Клещи, –
зашумели в толпе, – без гвоздя. Бьет подкова.
– Э-э, я сам, я сам, –
заорал, осмелев и оправившись, Фома, – дайка, я имею в этом деле. Смекаю.
С-стой, стер-рва, – и, зажав копыто между колен, стал отдирать с усилием
подкову.
Вдруг Милка-Колдунья
всхрапнула, заржала, да так ударила Фому, что тот ковырнулся оземь замертво.
Семен отскочить не успел, как кобыла шарахнулась и потащила резво мертвое тело.
Его пытались отбить, а она тащила его, топча, вцепившегося в узду, все дальше и
дальше, в сторону ферм бывшего хозяина, поднимая пыль по сухому логу, по
навозу, по выгону, по тому самому месту, где тащили его когда-то мужики «сажать
на кол».
Народ сголчился с
испугу, потом рассыпался и вытянулся в беге вслед за Милкой, но она шла и шла.
Далеко и легко, освободившись уже от мертвого свислого тела Фомы. Так и подняли
его с обрывком в мертвых руках зажатой узды.
Только один «обрубок»
остался на выгоне, это был сын Фомы Кукина – уродец Пашка-Полчеловека, он
сидел на коляске ощеряясь, как бы против солнца и ветра, вглядывался...
– Пашка, убило
отца-то, Фому-то!..
– Гы-ы... – и вдруг
задергал раздвоенной губой, захохотал, забил в ладоши и, отталкиваясь на
коляске, поехал вслед за толпой и все кричал, хлопал в ладоши. Да так отчаянно,
что Сашка вернулся к нему:
– Ты чего? Чего орешь,
обрубок?
– О-о, – и Пашка
выплюнул из-за щеки гвоздь от конской подковы.
– Так это ты чего же
вытащил? Или нашел?
Пашка еще яростней
затрепыхался, задергался на коляске, крича: «Пока! Пока! Пока!». Потом достал
нож, бережно завернутый в тряпочку, – это был тот самый нож, который ему
подарил когда-то Фома, – и захохотал с таким победным видом, что неверующий
Сашка закрестился часто и мелко и кинулся бежать напролом сквозь кусты. Он
бежал, продираясь сквозь лещину и сухой репейник, крестясь и оглядываясь, шепча
единственную молитву, которую знал: «Богородица Дева, радуйся.» – которую
слышал с самого раннего детства от прабабки Стеши. А сзади все слышались визги
и вскрики радостного Пашки.
Он бежал впервые в
другую сторону от толпы, ошарашенный какой-то явной догадкой, смысл которой был
ему неясен еще, но так страшен сам по себе, как страшится запоздало малый
ребенок, впервые проходя по грани добра и зла, и с гибельным восторгом выбирая
зло, и обомлев от выбранного, понятого.
А в это время к селу
подходил уже Николай Пряхин. Ему скостили срок за Фому. Бледный и худой, он
откинулся с больнички, купив на зоне туберкулезную мокроту – так велико было
его желание выбраться из-за решеток и заборов и отомстить. Списанный по
актировке, он едва шел. От былой силы и куража не осталось и следа, только
прежняя сутулость стала еще заметнее и острее торчали костлявые плечи.
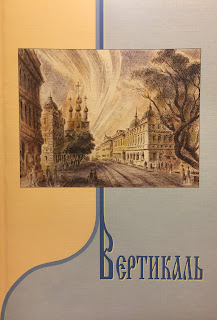



Комментарии
Отправить комментарий